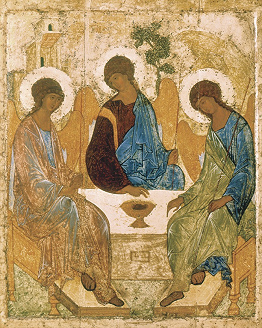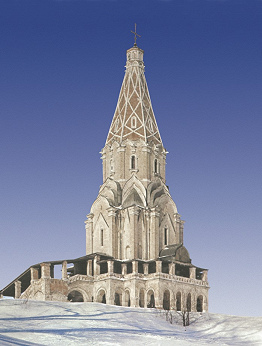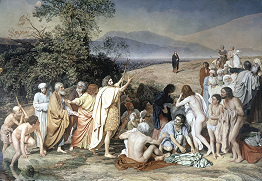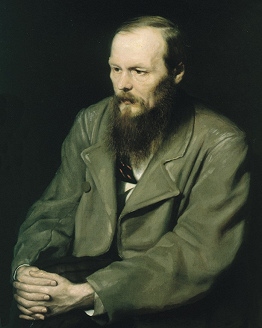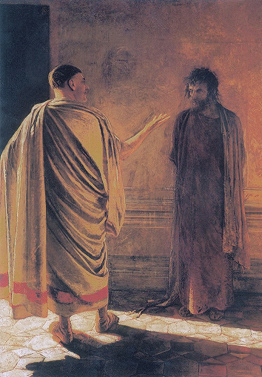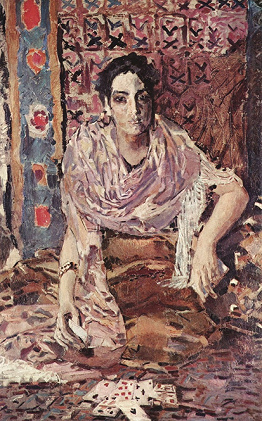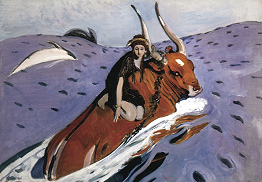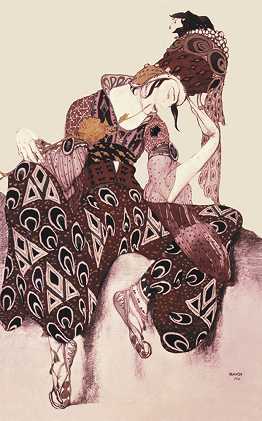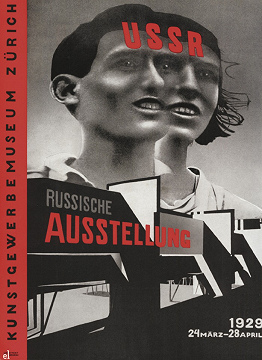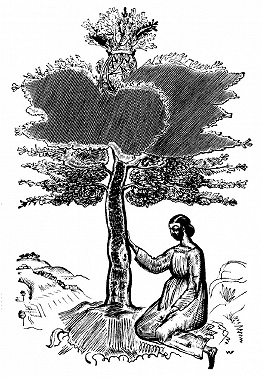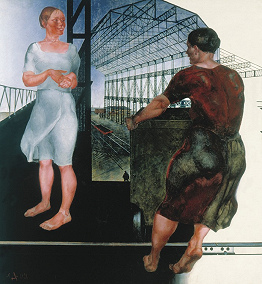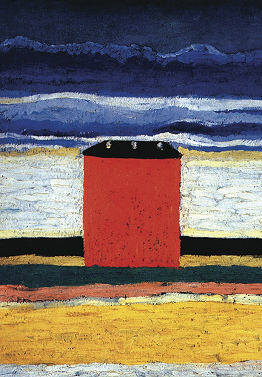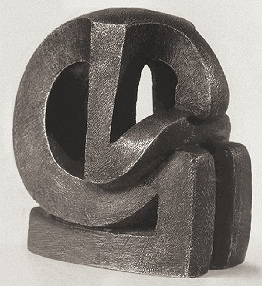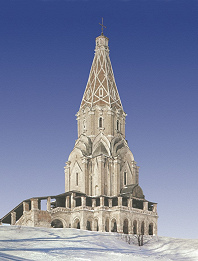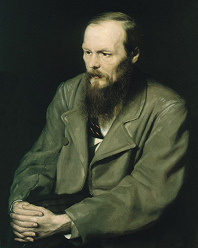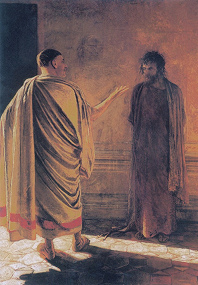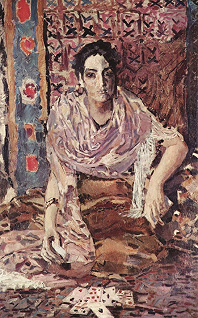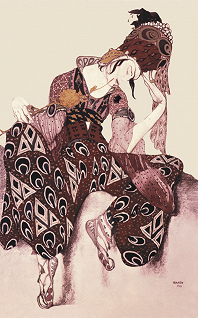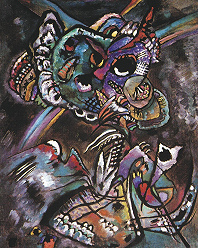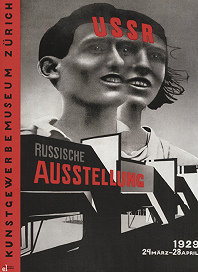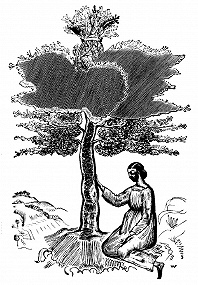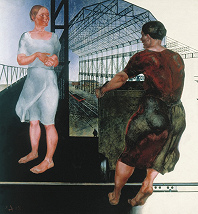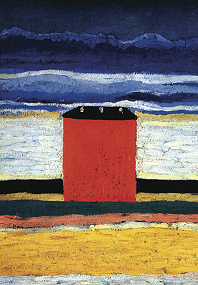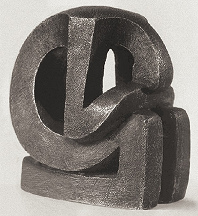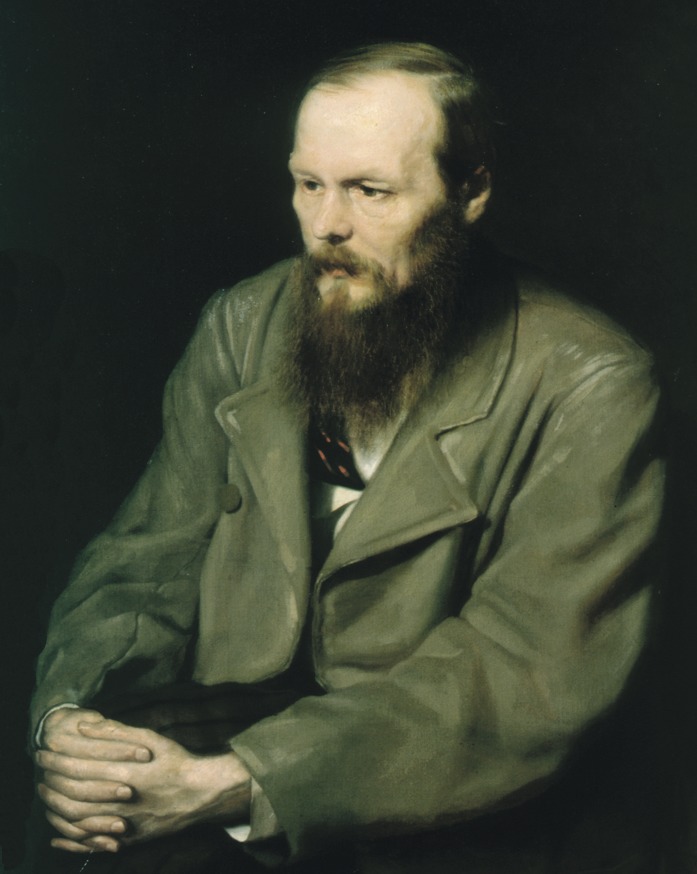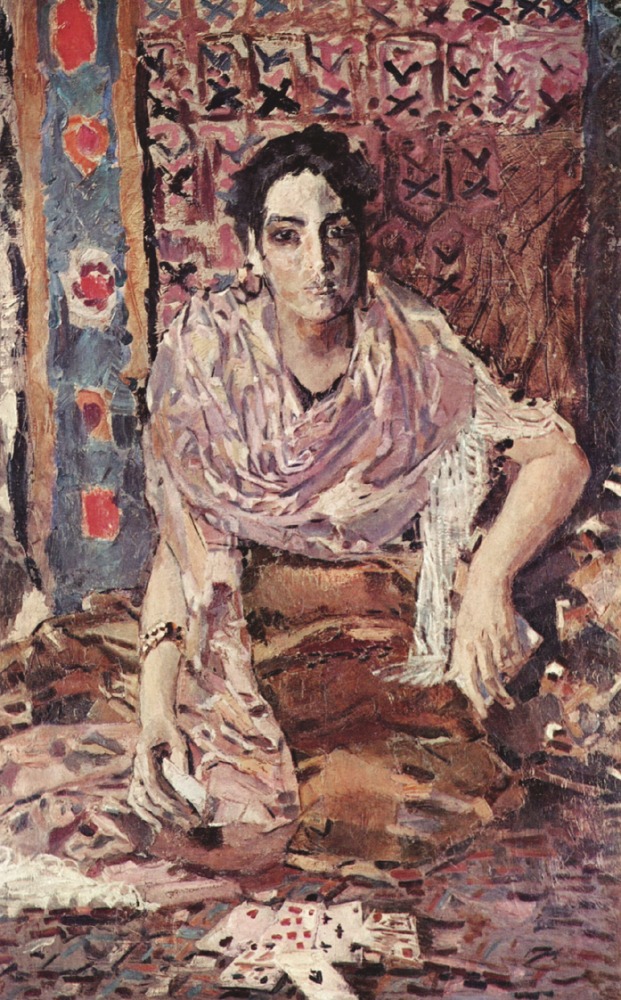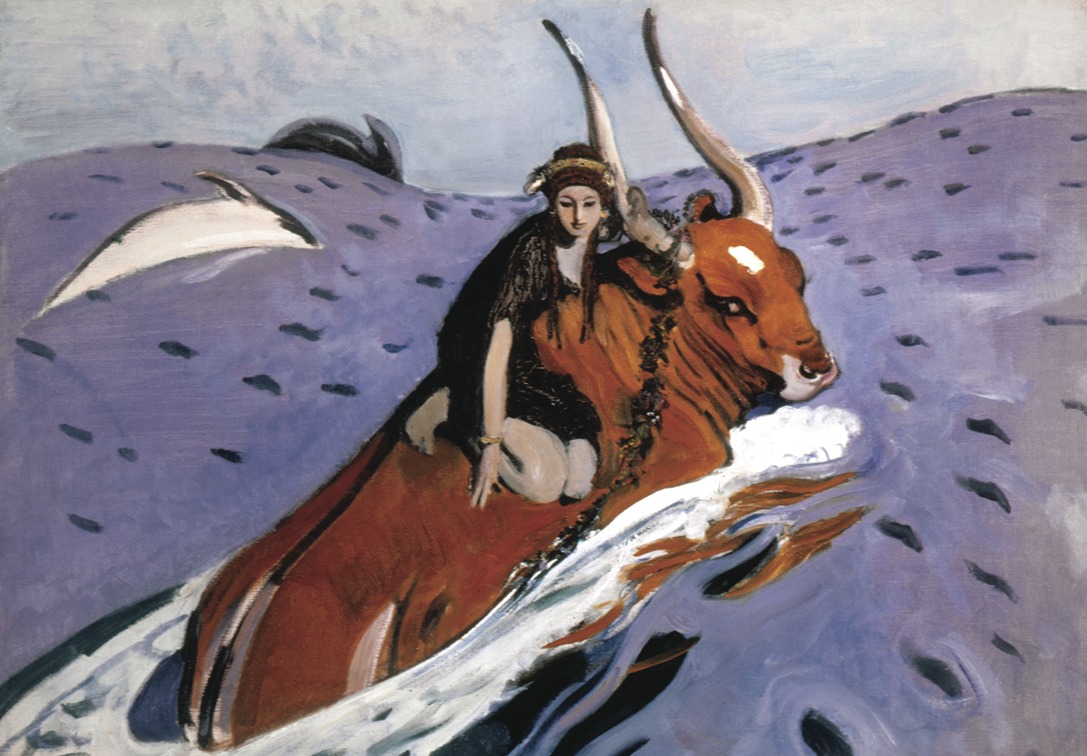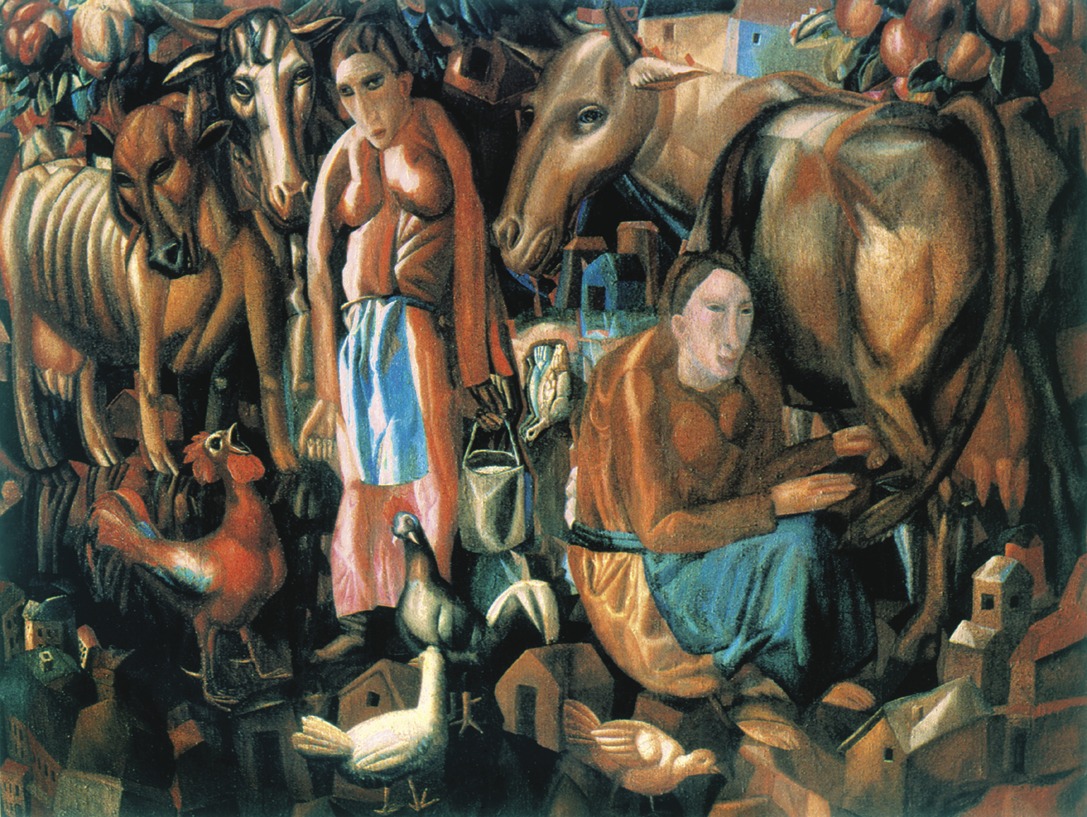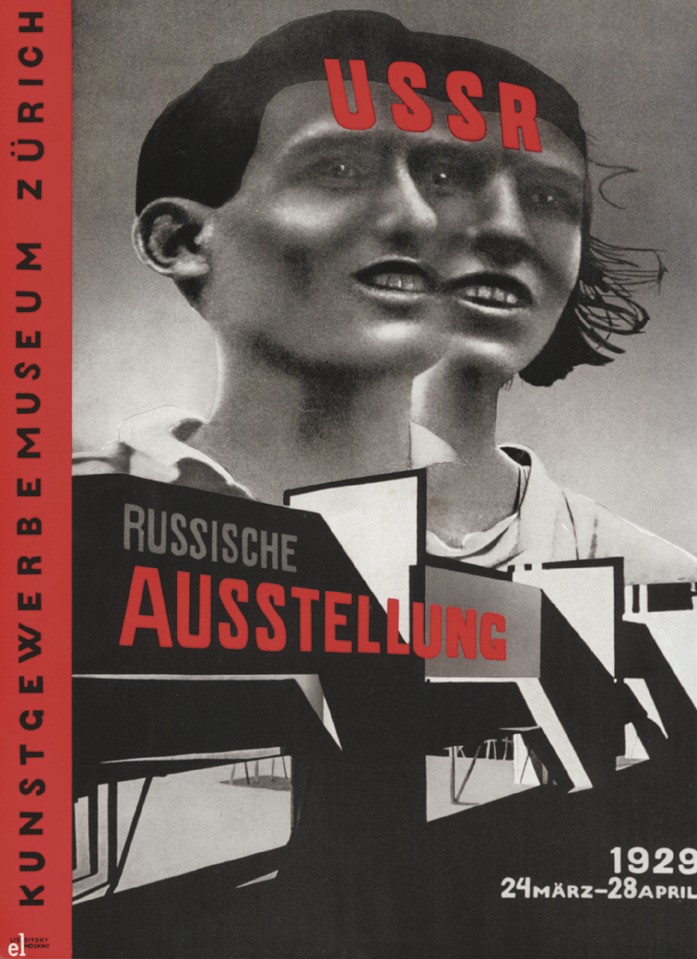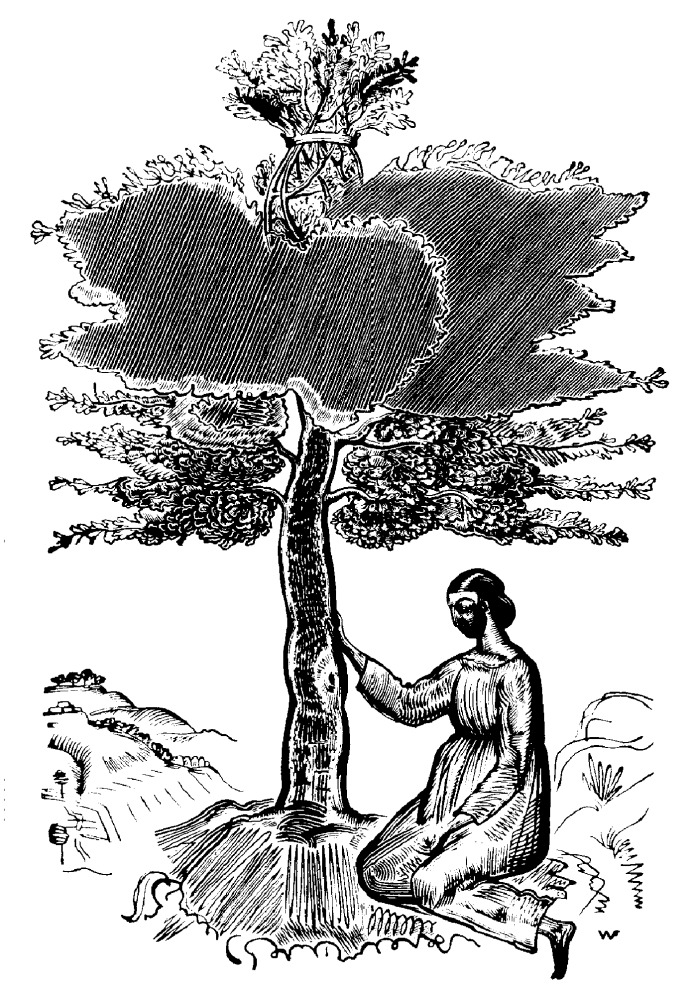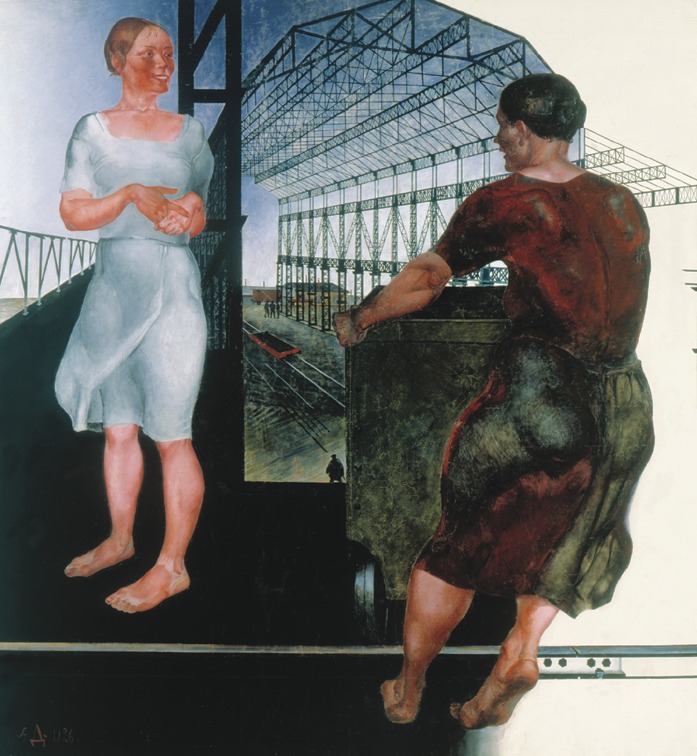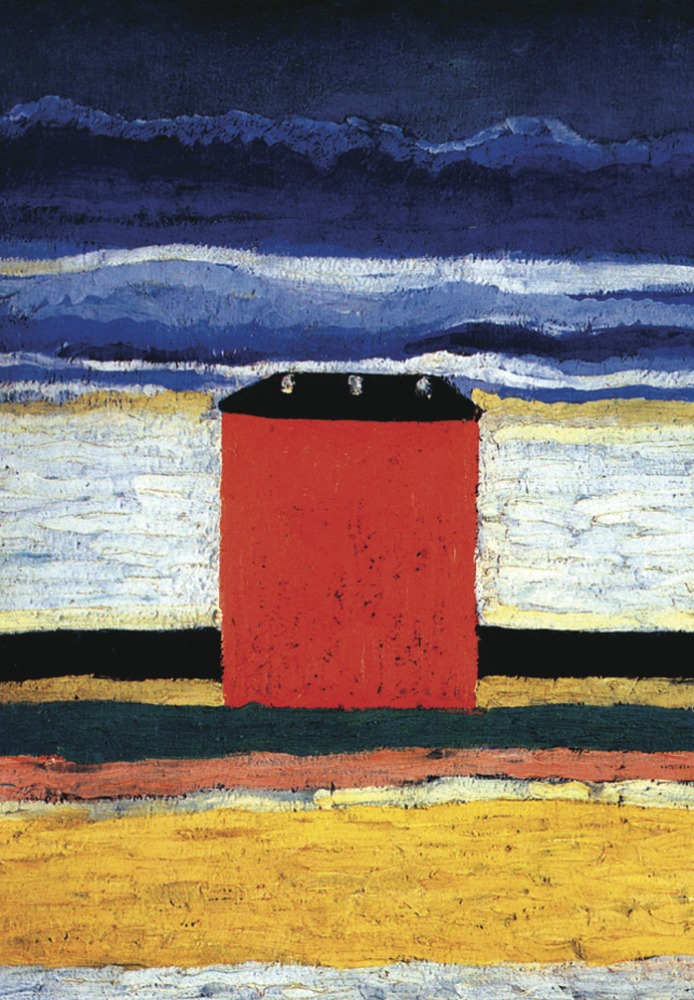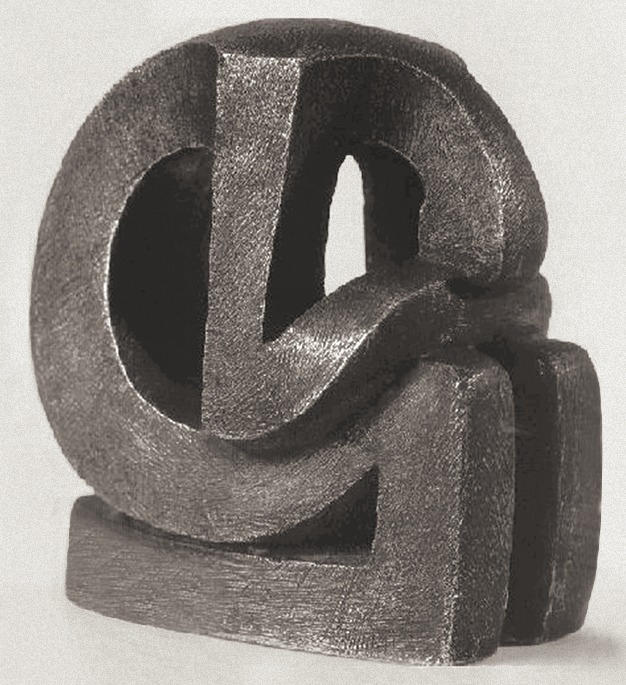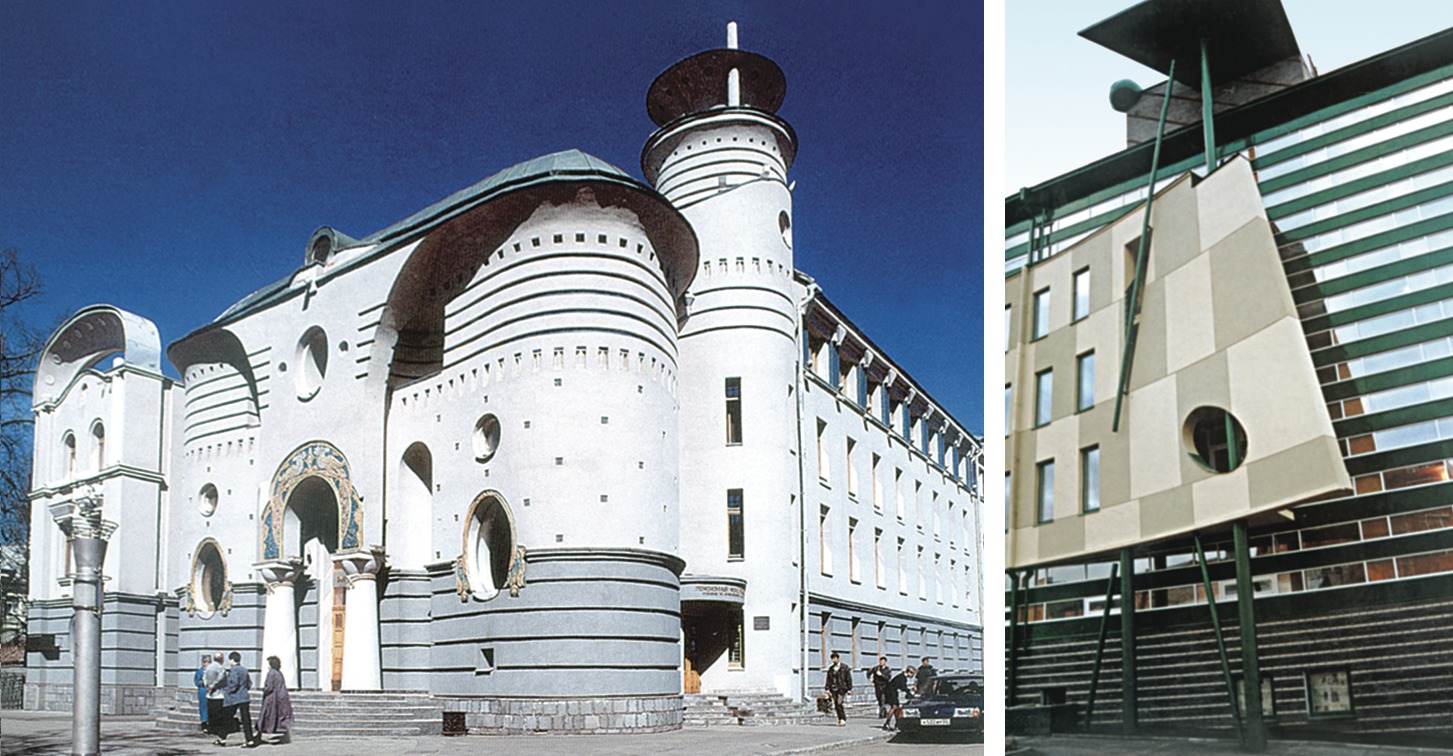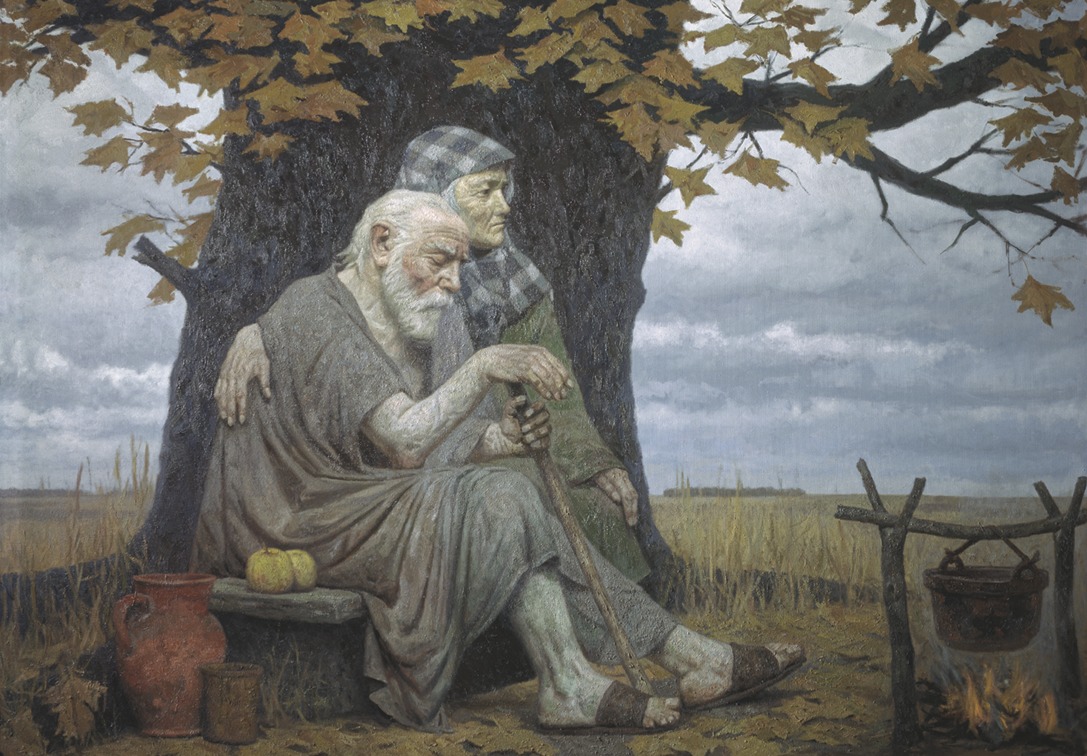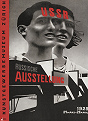Изобразительное искусство и архитектура
Изобразительное искусство и архитектура
Палеолит и неолит
Историю изобразительного искусства, в т. ч. на территории РФ, где было обнаружено множество памятников первобытной культуры, принято начинать с верхнего палеолита, т. е. примерно с 35-го тыс. до н. э. Провозвестием худож. формы является наглядное, подтверждённое этнографическими параллелями нефигуративно-знаковое либо антропоморфное воплощение определённых магических представлений. Таковы каменные или костяные «богини плодородия» (как условно именуют эти фигурки с подчёркнутыми женскими признаками; изображения мужчин в искусстве в это время практически отсутствуют), а также гравированные на кости и др. материалах (либо вырезанные из них) изображения животных, служивших объектами охоты, и абстрактные орнаменты, исполнявшие функцию календарей или иного рода символических систем памяти. Подобные находки были сделаны при раскопках стоянок первобытных общин у сёл Костёнки (Воронежская обл.), Гагарино (Липецкая обл.), Мальта и Нижняя Буреть (оба близ Иркутска) и др. местах. Палеолитическая пещерная живопись для рос. регионов (как и для Восточной Европы в целом) нехарактерна; выдающимся исключением являются росписи Каповой пещеры в Башкирии (фигуры мамонтов, лошадей и носорогов, исполненные красной краской). Древнейшие жилища были либо вообще нерукотворными, природными (пещеры), либо полуприродными (землянки и полуземлянки, крытые жердями, с использованием шкур, костей и черепов животных; реальные останки животных играли роль натуральных макетов, призванных обеспечить удачу в хозяйстве).
Места находок палеолитических реликтов на территории России очень немногочисленны. Начиная же с неолита (7–5-е тыс. до н. э.) древние памятники встречаются уже гораздо чаще, хотя лишь в отдельных регионах (это в осн. Карелия, побережье Белого м., Волго-Вятский бассейн, Причерноморье и Северный Кавказ, Средний Урал, юг Западной Сибири, Прибайкалье). Одним из важнейших материалов, наряду с костью, камнем и деревом, теперь становится глина. Декоративно-знаковые приёмы усложняются с распространением керамики; в технике её украшения сперва доминирует лепной (ямочно-гребенчатый) рельеф, в орнаменте же в целом – условно-геометрические ритмы. Именно в эпоху неолита, когда натуральность макета или изображения вытесняется ритмической стилизацией, закладываются многовековые традиции декоративного фольклора – в этом отношении одинаково архаичны в своих истоках резные украшения рус. крестьянской избы и эскимосские изделия из кости. Неолит вводит в искусство и изображения мужчин (в функции шамана-жреца или воина), однако образы животного мира в целом довлеют над человеческими. В Карелии, на вост. побережье Белого м., на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке создаётся, начиная с неолитического периода, огромное число наскальных рисунков (их сюжетный репертуар в России принадлежит к числу богатейших в мире); выбитые в камне и дополнительно раскрашенные (петроглифы) либо целиком исполненные краской (писаницы), они нередко составляют уже целые композиционно-сюжетные структуры ритуального характера. Прообразами архитектуры по-прежнему оставались малые поселения с землянками или полуземлянками, лишь слегка возвышающимися над уровнем почвы, но типология жилища расширялась (в осн. на Северо-Западе) за счёт бревенчатых срубов и свайных построек.
Бронзовый век
Первые очаги искусства энеолита (или медного века; 5–4-е тыс. до н. э.) и эпохи бронзы (4-е – нач. 1-го тыс. до н. э.) возникли на юге России. Его средоточиями чаще всего являлись уже не стоянки или поселения, но курганы, надгробные холмы. Возведение внешних креплений курганов и их внутренних погребальных камер значительно стимулировало развитие строительной техники. На рубеже энеолита и бронзового века, во 2-м тыс. до н. э., в Прикубанье и на Северном Кавказе появляются также и дольмены из массивных камней и обломков скал. К числу художественно освоенных материалов добавляется металл, обработанный в технике литья, а позднее и всё более затейливой ковки. Находки в курганах свидетельствуют о возрастании социально-престижной функции предметов искусства, в т. ч. оружия. Наряду с влечением к роскоши растёт и интерес к художественному импорту; особенно знаменателен в этом смысле Майкопский курган (1-я пол. 3-го тыс. до н. э.), где были найдены изделия шумерского (или малоазийского) происхождения.
В кобанской культуре Северного Кавказа, а также в Зауралье и на юго-западе Сибири складываются предпосылки звериного стиля. Уникальны прибайкальские каменные и костяные рыбы, а также изваяния бронзового века, сохранившиеся в степях Хакасии и в Минусинской котловине (изначально в осн. надкурганные каменные стелы или столбы со сложной мифологической символикой, иногда с завершениями в форме головы человека или животного).
На фоне искусства этих регионов, уже входящих в новую историческую фазу – эпоху Древнего мира, творчество сев. племён лесостепной и лесной полосы выглядит архаичным, как бы ещё всецело неолитическим (о чём свидетельствуют и наслаивающиеся друг на друга сев. петроглифы). Но и здесь, в т. ч. в центрально- и североевропейской зонах, активно осваиваются новые техники и материалы (такие, как бронзовое литьё). В бассейнах Оки, Камы и др. рек на века закрепляется тип поселения, окружённого защитными валами или частоколом.
Древний мир
В период перехода к эпохе раннего железа (отсчёт которой на территории России принято вести с нач. 1-го тыс. до н. э.) резче обозначилось социальное расслоение искусства: в нём ещё отчётливее выделились верхний, особо качественный – «аристократический» – слой, а параллельно ему – более скромные средний и низовой слои, активно имитирующие высший (напр., путём воспроизведения золотых изделий в бронзе), либо совсем примитивные.
В 6–5 вв. до н. э. в Причерноморье возникли греческие поселения, а в них – локальные центры античного греческого искусства (лучше всего представленного здесь в своих классической и эллинистической фазах). Однако, несмотря на большое влияние греческой, а затем и римской цивилизаций, наиболее географически широкоохватным, как бы «евразийски» универсальным стилем Древнего мира в юж. и вост. пределах будущей России стал т. н. скифо-сибирский звериный стиль; к тому же он был здесь (в отличие от античной классики) преимущественно автохтонным, хотя и впитавшим массу внешних воздействий. Этот стиль лишь частично связан с племенами скифов, расселившихся ок. 7 в. до н. э. в Северном Причерноморье; типические его черты проявились также на территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, ярко и многообразно выразились в искусстве Сибири, в виде влияний и импортных изделий проникли глубоко на Север. Связанный, с одной стороны, с традициями переднеазиатских царств, ассиро-вавилонским искусством, а с другой – с древнеиранской культурой, этот стиль придал образам животных невиданную экспрессию и динамику, постоянно проявлявшуюся в мотиве яростной борьбы зверей. Декоративные звенья, чрезвычайно плотные, композиционно крепкие, украшали одежду, оружие, утварь и конскую сбрую, переводя природно-магическую мифологию на символический язык власти и знатности. «Скифские клады» (точнее, захоронения вождей) наполнялись ювелирными шедеврами, в т. ч. золотыми; гораздо масштабнее стали и сами курганы (наиболее известна группа Келермесских курганов 6 в. до н. э., раскопанных в Адыгее); сверху на них обычно устанавливали каменные фигуры воинов. Важный вклад в изобразительную культуру тех же регионов внесли в 4 в. до н. э.– 4 в. н.э. воевавшие со скифами сарматы, которые сочетали в своих украшениях, выделяющихся яркой полихромией, античные ювелирные приёмы со «степными» мотивами звериного стиля.
Другими важнейшими очагами искусства были в тот период греческие колонии. В Гермонассе, Горгиппии (на месте совр. Анапы), Кепах, Танаисе, Фанагории (и ряде других мест Причерноморья) утвердились принципы регулярной планировки поселений и система античного атриумного дома. Искусство здесь поставило в центр своих интересов жизнеподобный образ человека, а также наглядно продемонстрировало свои социально-воспитательные способности, рассчитанные не только на соучастие в ритуале, но и на достаточно независимое созерцание, т. е. на соучастие чисто эстетическое. Произведение искусства по сути впервые стало высвобождаться из магико-религиозной сферы. Лучшие античные изделия были привозными, но в последние века до н. э. развивается и местное производство. Что же касается стилистики, то она варьируется в зависимости от заказа: греческие мастера создают для «варваров» вещи в скифо-сарматском духе, местные же художники, следуя моде своей знати, охотно перенимающей эллинские обычаи, подражают грекам.
От древности к раннему Средневековью
Иным, совершенно «неклассическим» курсом следовало искусство Урала, Сибири и Алтая, связанное с Европой общей типологией и семантикой скифо-сибирского стиля, а не античным наследием (лишь опосредованные, дальние отголоски которого доходили сюда через Среднюю Азию). Здесь были найдены многочисленные памятники степных тагарской (7–3 вв. до н. э.) и таштыкской (1 в. до н. э.– 5 в. н. э.) культур, в т. ч. замечательные произведения из горно-алтайских Пазырыкских курганов (в частности, древнейшие в мире ковры 5–4 вв. до н. э. – войлочные, с кожаными аппликациями) и связанные в осн. с таштыкской культурой минусинские погребальные маски, близкие по духу к средневековой пластике Дальнего Востока. Символами Тувы навсегда остались оленные камни, исполненные во 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. и выразившие в своих резных композициях целостный мир древних мифокосмических представлений.
В период Тюркского каганата, частично включившего в свой состав (в 6–8 вв. н. э.) юг Урала и Сибири, возводились статуи воинов, реже женщин (позднее эти статуи, в целом условные, но иногда с явными попытками передать портретное сходство, обобщённо называли «каменными бабами»). Здесь они ставились уже не просто над курганами-надгробиями, как у скифов, но входили в состав храмовых комплексов (кирпичных, расписных и крытых черепицей); археологические остатки подобных храмов свидетельствуют о формировании базисных черт центральноазиатского сакрального зодчества. Тогда же сложилась и традиционная для кочевников конструкция лёгкого разборного жилища типа юрты или кибитки, осн. материалом для которых служил войлок.
Как на западе, так и на востоке России преддверием культуры раннего Средневековья явилось искусство эпохи Великого переселения народов (с первых веков н. э.), создававшееся союзами племён, которые продвигались по степям на юг, запад и север, поддерживая (параллельно постоянным военным распрям) активный культурный обмен с местными этносами. На Кубани и Северном Кавказе развивалась культура аланов, продолжавших позднесарматские традиции; к этой культуре восходят древнейшие христианские храмы на территории РФ (крестово-купольные храмы на горе Шоана и близ аула Сенты в Карачаево-Черкесии, с 1-й пол. 10 в.). В 7–8 вв., в связи с приходом арабских завоевателей, в Южном Дагестане были возведены первые, достаточно строгие по декору мечети (крупнейшая из которых – Джума-мечеть в Дербенте, с 8 в.; включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; далее в тексте – ВНЮ). В горных районах сложился характерный тип поселения-аула со сторожевыми башнями и ступенчато расположенными друг над другом домами. Здесь строительство велось из камня, в предгорьях же доминировали саманные постройки. В предкавказских степях тоже ставились надгробные статуи, которые позднее считались половецкими. Среди декоративных искусств Северного Кавказа ведущее место заняли резьба по камню, украшающая дома и надгробия (наиболее известны кубачинские рельефы Дагестана, с 10 в.), а также обработка металла. Особую масштабность обрело крепостное строительство – грандиозная система каменных укреплений в Южном Дагестане, с 5 в.; созданная византийскими мастерами кирпичная хазарская крепость Саркел – Белая Вежа 9 или 10 вв. (в настоящее время место раскопок затоплено Цимлянским водохранилищем) в Ростовской обл.
Языческие святилища в лесостепной и лесной полосе сооружались из дерева и имели вид открытых площадок с частоколом, окружавшим центральных идолов (сохранились лишь их археологические фрагменты,– напр., в Перыни близ Новгорода, 9–10 вв.). На значительной части Европейской территории России уже тогда сложилась стабильная система городской застройки, с укреплённым центральным ядром – детинцем, где находились главные святилища, дома знати и куда всё население укрывалось во время вражеских набегов, и окружающим посадом, благодаря своим огородам и угодьям существенно не отличавшимся от крупного села. Этот смешанный сельско-городской облик осн. центров расселения на века обозначил одно из главных ландшафтных отличий Древней Руси от Западной Европы с её крайне плотно застроенными средневековыми городами.
Формирование древнерусского искусства
Возникновение Древней Руси (обширного государства, объединившего с 9 в. в своих границах племена славян и ряд сопредельных с ними этносов) и в особенности принятие ею христианства в качестве гос. религии открыли новую историко-культурную эпоху. Главной наставницей в делах веры и творчества выступила Византия, поразившая княжеских послов (согласно летописному свидетельству «Повести временны́х лет», 1110-е гг.) такой красотой церковной службы, что они не ведали, «на небе ли есмы были, ли на земли»; ещё до этого, согласно той же летописи, приезжий греческий «философ» (следуя эллинской традиции наглядно-поучающего искусства) показал князю Владимиру изображение Страшного суда, тем самым усилив его влечение к новой вере. Установился канон, система худож. правил, выделяющихся, в соответствии с его антично-византийскими корнями (и по контрасту с грубоватой условностью местных языческих идолов), своей натуроподобной человечностью, монументальным великолепием и возвышенностью в прямом и переносном смыслах: если прежде пришельцам с юга казалось, что у сев. народов «всё под землёй», то теперь появились высокие каменные храмы, доминировавшие в качестве главных пространственных ориентиров, как градостроительных, так и чисто пейзажных (тем более, что рядовая застройка по-прежнему состояла из небольших срубов или, в безлесных районах, мазанок).
Производство плоского кирпича-плинфы, изготовление мозаик, фресковая и иконная живопись – все эти навыки принесли с собой на Русь византийские мастера (их же ювелирное искусство, в т. ч. техника скани и зерни, было достаточно хорошо известно здесь ещё до принятия христианства). Но вскоре появились и местные художники (первым из которых был, по преданию, Алипий, инок Киево-Печерской лавры, живший в кон. 11 – нач. 12 вв.). Купола (первоначально шлемовидные), величавый лаконизм кирпичных или каменных форм (правда, б. ч. христианских храмов на Руси издревле возводилась из дерева, но до нас дошли лишь сравнительно поздние образцы), крестово-купольные структуры (со сводами, как бы осеняющими сверху тех, кто собрался на церковную службу, и мощными внутренними столбами), массивные стены, скруглённые закомары и апсиды, подчёркивающие медлительно-плавную ритмику архитектурных объёмов, мозаики и фрески, а также иконы, перед алтарём сгруппированные на сравнительно невысокой преграде, – всё это создавало целостный образ божественно-просветлённого мироустройства. При этом византийская типология дополнялась чертами местного своеобразия: важнейшие храмы, среди которых первоначально доминировали закомарные структуры (т. е. с позакомарными покрытиями, создающими характерный волнистый силуэт верхнего яруса), строились в новообращённой стране с расчётом на привлечение больших масс верующих, имели подчёркнуто соборный вид и были значительно крупнее современных им византийских церквей.
Внешние поверхности стен обогащались выступами-лопатками и элементами узорной кладки. Величайшим архитектурным памятником эпохи остаётся Софийский собор в Киеве (1-я пол. 11 в.; ВНЮ). В мозаиках и фресках (того же Софийского собора, а также киевского Михайловского монастыря, ок. 1112) закрепилась монументально-строгая система оформления церковного интерьера – с крупными фигурами на золотом или цветном фоне, подчинёнными лейтмотиву торжественного предстояния и зрительно «поддерживающими» всю тектонику храма; образы, полные величавого благородства, сочетались с более архаическими, но в целом доминировал «аристократически-княжеский» стиль (чьё название указывает и на гл. заказчиков данных произведений, и на их пластико-колористическую изысканность в целом). Наряду с архитектурой, монументальной и иконной живописью плодотворно развивалось также искусство книжной миниатюры, ранним шедевром которой явилось «Остромирово Евангелие» (1056–57), отмеченное тем же «великокняжеским» изыском декора, близкого по манере перегородчатым эмалям.
Возникновение местных школ
Хотя роль киевских образцов некоторое время была первостепенной, черты локального своеобразия, наметившиеся уже в 11 в., позволяют говорить о раннем сложении различных региональных школ, как архитектурных, так и изобразительных. В северных и восточных древнерусских пределах самые значительные храмы возводились не из плинфы, как в Киеве, а в основном из камня либо (в новгородско-псковских землях) из камня с редкими прослойками плинфы. Исчезло искусство мозаики. Репертуар архитектурного декора обогатился (во Владимире, Ростове и других центрах) аркатурными поясками. Если сравнительно недавно эстетические вкусы диктовались княжеско-боярской средой, то теперь параллельно возросло значение посадских, т. е. широких городских кругов, а также монастырских мастерских, которые работали не только на заказ, но и на сбыт, что усилило процессы художественного взаимообмена.
Сравнительное (с Киевом) упрощение новгородских архитектурных композиций (Софийский собор, 1045–50, – самый крупный аналог Софии Киевской; Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119–30?; оба – ВНЮ) придало им тектоническую компактность, подчеркнув монолитное единство их образов. Здесь также строились монументальные храмы, не уступавшие по масштабу киевским, но в северных землях сложился наряду с этим и тип небольшой посадской церкви (напр., Благовещения в Аркажах, 1179, и Спаса Преображения на Нередице, 1198, обе – ВНЮ; св. Георгия в Старой Ладоге, кон. 12 в.). Эти постройки зачастую выделяются благодаря глыбам известняка и валунам, проступающим под плотной обмазкой, особой, почти «скульптурной» пластической выразительностью, которая не нарушает, впрочем, общей выверенности изящных пропорций, замечательно вписывающихся в окружающий пейзаж.
Яркие черты локального, не просто византинизирующего, а как бы «русско-византийского» своеобразия наметились и в местной фресковой живописи (росписи церквей: Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове, св. Георгия в Старой Ладоге, Благовещения в Аркажах и Спаса Преображения на Нередице; все – 2-я пол.– кон. 12 в.); значительно расширился репертуар тем и символов, наглядно размечающих сакральное пространство, усложнились приёмы повествования, линейной стилизации и красочной акцентировки, благодаря чему духовная жизнь образов получила новую, углублённую внутреннюю экспрессию.
Во владимиро-суздальских белокаменных храмах этой эпохи (ВНЮ) к собственно архитектурному декору добавились многочисленные рельефы, сосредоточенные в осн. на внешней поверхности зданий. Иногда они покрывают стены сплошным ковром, образуя пышное зрелище, где юж. и вост. влияния, реминисценции «звериного стиля» составляют сложный сплав с западными, романскими элементами, а мифологические сюжеты словно вплетены в природное узорочье. Самыми значительными здешними памятниками стали храм Покрова на Нерли близ Владимира (1165), Успенский (1158– 1160, 1185–89) и Дмитриевский (1193– 1197?) соборы во Владимире, а также Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (1230–34; последние два здания выделяются и особым богатством рельефного декора). Выдающийся образец фресковой живописи – роспись Дмитриевского собора (ок. 1197) – является, как и знаменитая икона 12 в. «Богоматерь Владимирская», перенесённая из Киева, византийским произведением, близким столичному, константинопольскому искусству. Греко-средиземноморское начало пока доминирует и в ликах святых, сохраняющих (причём в разных школах) отчётливо юж. черты. Однако сотворчество местных мастеров постоянно даёт о себе знать (так, явные различия живописных манер, более «строгой» на юж. склоне свода Дмитриевского собора и более «мягкой» на его сев. склоне, позволяют утверждать, что здесь, на сев. склоне, работал и рус. мастер).
Развивалась и светская каменная архитектура – самым ранним, хотя лишь фрагментарно сохранившимся её образцом является княжеский дворец в Боголюбове близ Владимира (1158–65). В состав городских стен всё чаще включались и каменные проездные башни (типа владимирских Золотых ворот, 1158–64).
Литургические сосуды и предметы церковного облачения образовали в совокупности важнейшее звено декоративно-прикладного искусства, символически отражающего церковную службу (среди древнейших рус. произведений такого рода наиболее известны новгородские кратеры – сосуды для церковного вина, и Большой и Малый сионы – хранилища освящённого хлеба, 11–12 вв.). Литьё, чеканка, зернь, скань, перегородчатые эмали, золочение, а также резьба по дереву – все эти техники находили активное применение как в церковном, так и в бытовом обиходе, причём в последнем стойко удерживались следы религиозно-магического двоеверия (поскольку многие украшения – змеевики, гривны и др., соседствуя с нательными крестами, в то же время исполняли роль языческих амулетов-оберегов). Этапным произведением, масштабно объединившим прикладное ремесло с церковным нравоучением, явились врата собора Рождества Богородицы в Суздале (1220-е гг.) – с многочисленными, тонко ритмически скомпонованными библейско-евангельскими сценами, исполненными в технике золотой наводки на металле.
Помимо Новгорода, Пскова и Владимира с их окрестностями важные худож. центры сформировались в Галиче, Полоцке, Смоленске, Владимире-Волынском, Ростове Великом и Ярославле. В храмовом зодчестве Полоцка и Смоленска в 12–13 вв. впервые возникли подчёркнуто вертикальные, башнеобразные композиции (Свирская Михаила Архангела церковь в Смоленске, кон. 1180-х – нач. 1190-х гг., и др.). В целом эти века вошли в историю рос. искусства, несмотря на весьма ограниченный круг сохранившихся памятников, как чрезвычайно яркая и деятельная эпоха: центр и север Европейской России отныне заняли весьма видное место в культуре средневекового мира, перестав быть лишь окраиной более развитых юж. цивилизаций.
13–15 века
Из-за монголо-татарского нашествия на некоторое время прекратилось большинство сколько-нибудь значительных строительных работ. Княжества Южной, Юго-Западной и Западной Руси в 13–14 вв. вошли в состав Великого княжества Литовского и Польши, где господствовала католическая церковь (отношения которой с византийским православием всё более осложнялись, различие же конфессий отчасти предопределило и разные пути развития вост. и зап. религиозного искусства). С этой эпохи культура Северо-Восточной и Северо-Западной Руси (или великорусское искусство, каким оно предстало в исторической перспективе) эволюционировала уже достаточно обособленно от культур своих ближайших славянских соседей, хотя и в постоянных контактах с ними.
В Новгороде (а также Пскове), на рус. северо-западе в целом, не пострадавшем от нашествия непосредственно, лишь попавшем в вассальную зависимость от Золотой Орды, тенденции к обновлению монументального искусства проявились раньше всего, уже в кон. 13 в. Композиция храмов обрела (по сравнению с прежней компактной, кубообразной массивностью) новую пространственную динамику благодаря плавным трёхлопастным или пощипцовым многоскатным, устремлённым ввысь покрытиям (церкви: Николы на Липне, 1292, Николы Белого, 1312, Фёдора Стратилата на Ручье, 1360–61, в Новгороде; Успения в Мелетове, 1463). Стены обогатились дополнительным, скупым, но пластически мощным декором (в т. ч. рельефными крестами), композиция же объёмов в целом значительно усложнилась за счёт притворов, подклетов и крылец. Псковским церквам особую живописность придавали отдельно стоящие или пристроенные к храму звонницы (храм Богоявления в Запсковье, 1496, и др.). В культуре всё активнее проступали не только общие, соборные, но и социально-групповые и индивидуальные начала, конкретные свидетельства частного благочестия: церкви и монастыри либо отдельные притворы теперь всё чаще возводились по обету, косвенно отражая как события гос. значения, так и личные перипетии судьбы заказчика.
В искусстве Северо-Западной Руси спорадически проступали черты готики. Так, в 1-й пол. 15 в. в Новгороде работали немецкие строители, создавшие Грановитую палату с нервюрным сводом; ряд лучших новгородских фресковых циклов (в церкви Спаса на Ковалёве, фрески – 1380, и др.) был, по всей видимости, написан выходцами из Сербии и Болгарии. Прежняя, «домонгольская» иконография активно преобразовывалась и дополнялась местными приёмами, приобретавшими (даже если они и не являлись специфически локальными изобретениями) отчётливо региональный характер (таковы красные фоны многих новгородских икон или резкие цветовые контрасты псковской иконописи). И в живописи заметно возрастало частное, личностное начало: произведения постоянно создавались в виде церковных вкладов, исходящих от самых различных, уже не только высших слоёв общества; увеличивалось (причём опять-таки на разных социальных уровнях) и число домовых икон. На святых образах появились маленькие фигуры самих заказчиков, возрастала конкретно-историческая значимость сюжетов (недаром образ «Чудо от иконы "Знамение"», 1460-е гг., получил в 19 в. и вполне светское имя – «Битва новгородцев с суздальцами»). Увеличивалась популярность икон житийных, оснащённых развёрнуто-повествовательными циклами (с отдельными сценами в клеймах, расположенных вокруг центрального изображения, или «средника»).
Книжная миниатюра была и особым видом живописи (в лицевых, т. е. фигурно-сюжетных изображениях), и особым типом декора, своими затейливыми заставками и буквицами зрительно, а зачастую и символически акцентирующего церковные тексты. В этой сфере в Новгороде и Пскове также были созданы выдающиеся памятники (Служебники и Евангелия 13–14 вв.), оснащённые, помимо лицевых композиций, и характерными орнаментами в форме плетёнки с массой гибких, органически-природных мотивов древней тератологии (звериного стиля). Столь же «природным» выглядит и украшенный богатым, растительно-гибким резным орнаментом Людогощенский крест (1359), по сути самый ранний из дошедших до нас образцов древнерусской религиозной скульптуры. Образы такого рода кажутся иной раз достаточно неортодоксальными, реликтово-«языческими», но на деле в Древней Руси языческие мотивы (в отличие от Западной Европы) практически никогда не вводились в церковное искусство в виде прямых вставок, непосредственно сопряжённых с религиозно-магическим двоеверием.
Исконно греческая иконография всё активнее перелагалась на местные «наречия», причём не только в Новгороде и Пскове: к прежним региональным живописным школам добавилась в 14 в. и тверская. Греко-византийские лики с их более жёсткой и графичной пластикой заметно смягчались, наглядно воплощая местные этнические типы, что действенно углубляло процесс эстетического самоопределения. Но Византия по-прежнему оставалась важным источником выдающихся новшеств: так, именно оттуда в Россию приехал Феофан Грек, «преславный мудрец» (по словам Епифания Премудрого), создавший в новгородской церкви Спаса Преображения на Ильине улице (1374, росписи – 1378; ВНЮ) прославленный фресковый цикл, полный духовидческой энергии и предельного мистического драматизма. Культура независимых рус. княжеств достигает в этом памятнике, уникальном даже на современном ему византийском фоне, своего апогея, в следующем веке уже уступая первенство Москве (где Феофан Грек тоже работал). Туда всё чаще выезжают на работу лучшие местные мастера, оттуда распространяются централизованные импульсы худож. развития.
К рубежу 13–14 вв. относится знаменитая Шапка Мономаха, сочетающая в своей структуре меховую шапку с короной, т. е. типические азиатско-степные и византийские черты. Возможно, она была создана в мастерских Золотой Орды.
Период московского «собирания земель»
С возвышением Великого княжества Московского и созданием под его эгидой единого государства, включившего в 15 в. в свой состав б. ч. территории современной Европейской России, к Москве перешла и ведущая роль в искусстве. Истоки этого возвышения выглядели в архитектурном отношении достаточно скромно: церковные здания (Успенский собор на Городке в Звенигороде, 1399, и др.) следовали в осн. домонгольскому владимирскому зодчеству, но к сравнительно простым, 4-столпным и 3-апсидным композициям последнего добавились пояса килевидных кокошников, прикрывающих основание барабана (внешне приподнятое из-за введения внутри ступенчатых подпружных арок), что (вкупе с килевидными же очертаниями закомар) придавало храмам нарядный ярусный силуэт. Объёмы теперь словно вырастали один из другого – динамично, как в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря (1420–27), или более плавно, как в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря (1422–23; ВНЮ).
Деятельность св. Сергия Радонежского, направленная на духовное просвещение Руси и преодоление пагубной «розни мира сего», наложила отпечаток на важнейшие свершения времени. Именно в этом русле развивается в кон. 14 – нач. 15 вв. фресковая и иконная живопись Андрея Рублёва, полная умиротворённой, светлой гармонии. Его персонажи (за исключением патетических фигур во фресках владимирского Успенского собора, посвящённых Страшному суду, 1408) всегда пребывают в состоянии умилённого покоя и молитвенного созерцания (таковы, в частности, ангелы знаменитой иконы «Троица», ок. 1410 или 1425–28), их окружает атмосфера тихой благости. Высочайшее совершенство рублёвского искусства закономерно воспринимается как идеал русской иконы как таковой.
С именами Андрея Рублёва и его старшего современника Феофана Грека связано сложение высокого многоярусного иконостаса (самый ранний из дошедших до нас иконостасов подобного типа создан в 1420-х гг. Андреем Рублёвым и др. мастерами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря). Иконы отныне составляют по сути пятую стену храма, подчёркивающую их важнейшую церковно-литургическую роль. Рублёвскому искусству близки до духу и стилю и лучшие памятники книжной живописи того времени (в первую очередь, Евангелие Хитрово, кон. 14 – нач. 15 вв.).
К кон. 14 – нач. 15 вв. относятся древнейшие из известных нам памятников рус. фигурной деревянной скульптуры, в своей стилистике пока строго следующей иконному или декоративно-прикладному искусству (крупные «иконы на рези», т. е. рельефные изображения святых Николая Чудотворца, Николы Можайского и св. Георгия; изысканные миниатюрные кресты и образки мастера Амвросия). Среди живописных произведений рубежа 15– 16 вв. особо выделяются иконы и фрески Дионисия; для них характерны более удлинённые (нежели у Андрея Рублёва) пропорции фигур, ритмически-грациозная декоративность колорита и композиции, а наряду с этим (что типично для данной эпохи в целом) стремление к усложнению и обогащению смысловых связей между зрительными образами и богослужебными текстами. Самым крупным и значительным свидетельством этих тенденций явились исполненные Дионисием с сыновьями фрески Ферапонтова монастыря (1502– 1503; ВНЮ).
Крепости в 15 в. получают планировку, близкую к регулярной; в связи с использованием артиллерии их стены утолщаются, а башни (прежде в осн. надвратные) играют всё более значительную композиционно-стратегическую роль, численно умножаясь, пропорционально вырастая и выдвигаясь вперёд (одной из первых рус. фортификаций нового типа явился Ивангород, основанный в 1492 московским великим князем Иваном III Васильевичем для защиты зап. рубежей государства). Именно крепостное строительство служит теперь главным стимулом для приглашения иностранных зодчих.
В связи с расширением и перестройкой Кремля в последней четв. 15 в. в Москву приезжают итальянские мастера, принёсшие с собой целый ряд специфически западных инженерных, конструктивных и декоративных приёмов (таких, как навесные бойницы, зубцы в виде ласточкина хвоста, применённые в стенах Кремля, или гранёный руст Грановитой палаты, возведённой в 1487–91 Марком Фрязиным и П. А. Солари). Итальянцы же вводят и элементы ордерной архитектуры, которые впервые на Руси были систематически применены в кремлёвском Архангельском соборе, построенном в 1505–08 арх. Алевизом Фрязиным (Новым). Как правило, приезжим зодчим удавалось достичь органического единства иноземных и местных начал, лучшим примером чему служит возведённый А. Фьораванти кремлёвский Успенский собор (1475– 1479), воспроизводящий осн. черты, прежде всего пятиглавие, древнего прототипа (Успенского собора во Владимире), но со значительным изменением общей архитектоники: тонко рассчитанные пропорции интерьера делают последний необычайно просторным и уже не столь массивным, как во владимирском образце.
Навыки итал. Возрождения активно воплощались и в орнаменте, который (благодаря «фряжским травам», как называли эти декоративные вкрапления) обрёл отныне в значительной мере смешанный, как бы средневеково-ренессансный вид. Древнерусский орнамент, оставаясь внеканонической, по-своему импровизационной формой творчества, активно подпитывался как с запада, так и с юга и востока (причём восточные, приходящие с Кавказа или Волжско-Камской Булгарии мотивы по сравнению с западными более сказочно-фантастичны, растительные же узоры в них более ритмически-условны и как бы «иероглифичны», не столь натуральны, как западные «травы»). Богатые оклады богослужебных книг и наиболее почитаемых икон окончательно закрепляются в качестве важнейшей области прикладного мастерства, использующего полихромные эмали, скань и серебряное литьё. Искусство в целом выражает суверенную мощь государства (окончательно преодолевшего в 15 в. вассальную зависимость от Золотой Орды), органично, без эклектики, сочетая в своих образах «своё» с «чужим».
16 век
Монументальное обновление Московского Кремля (ВНЮ) установило новые масштабы всего древнерусского творчества. Целый ряд регулярных по планировке городских кремлей (как теперь называют прежние детинцы) строится в 1-й пол. 16 в. в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне, Серпухове, Зарайске и др. городах, прикрывавших подступы к столице. Завершается этот ряд Казанским кремлём (с сер. 16 в.; ВНЮ) и крепостью в Смоленске, законченной уже в начале следующего столетия. Эти крепости не только держат оборону, но и составляют в совокупности многочастную стратегическую модель государства, объединённого под властью московских великих князей. В церковном зодчестве также всемерно усиливаются стратегические и репрезентативные функции: крупный монастырь 16 в. – это уже не только тихая обитель, а, подобно Троице-Сергиеву (14–17 вв.; ВНЮ) или Иосифо-Волоколамскому (15–17 вв.) монастырям, обширная цитадель с массивными стенами и башнями, а также главными храмами, возведёнными обычно по образцу московского Успенского собора. Крупнейшими «святыми цитаделями» рус. Севера стали Кирилло-Белозерский (15 – нач. 17 вв.) и Соловецкий (15–17 вв.; ВНЮ) монастыри; уникальны по суровой мощи стены последнего, сложенные из огромных необработанных валунов.
Архитектурные объёмы и силуэты живописно обогащаются: возникают башнеобразные храмы шатрового типа; ранний и известнейший их образец – церковь Вознесения в Коломенском (1532; ВНЮ), созданная (как полагают, итальянцем Петроком Малым) с заметным, хотя и ненавязчивым использованием готических приёмов. Готические, равно как и ордерные элементы всё явственнее дают о себе знать, хотя чаще в опосредованном, а не систематически-наглядном виде. Выразительнее подчёркивается историко-мемориальный смысл церковных зданий, порой поражающих своим торжественно-мажорным обликом. Таков, прежде всего, построенный в память о взятии Казани Покровский собор что на Рву, или храм Василия Блаженного, в Москве (1555–61), – с основными объёмами (а не только лишь отдельными декоративными деталями), составляющими сложную орнаментальную композицию, растительно-пышное видение, запечатлённое в камне. Строятся бесстолпные храмы с крещатым сводом (церковь Зачатия Анны что в Углу в Москве, сер. 16 в., и др.), структура которых позволяет свободнее варьировать внешнее и внутреннее убранство. Шлемовидные купола вытесняются луковичными, гораздо более эффектными и динамичными по силуэту, как бы пламенеющими по форме, которые иногда (ещё достаточно редко) покрывают позолотой, – отсюда берёт начало столь характерная для рус. храмов златоглавость. Церковный интерьер по-прежнему остаётся средоточием зрительного великолепия, однако значительно возрастает и пластическое красноречие внешнего облика построек, в т. ч. и красноречие масштабно-градообразующее, связанное с идеей Москвы как «Третьего Рима».
Уже не тихой «рублёвской» созерцательностью, а сложно детализированным, хотя и по-прежнему гармоничным символико-аллегорическим строем зачастую выделяются и памятники церковной живописи (напр., икона «Апокалипсис» из Московского Кремля, кон. 15 в., включающая сотни фигур). Обретая подчёркнуто-проповедническое звучание, живопись осмысляется отныне как дело общегосударственного значения: поддерживая её строгий, чуждый всяких «ересей» византинизм, Церковный собор 1551 («Стоглав») предписывает, чтобы художники точно следовали «добрым образцам», не допуская никакого «самомышления». Вместе с тем, благодаря стремлению максимально систематизировать церковную иконографию, усиливаются и воздействия зап. религиозного искусства с его детально разработанной схоластически-богословской символикой. Конкретно-историческое содержание постоянно даёт о себе знать: так, наряду с идеальными образами святых и царей в религиозной живописи теперь можно встретить и первые портреты (напр., изображение Василия III в надгробной иконе с соименным ему святым Василием Парийским, сер. 16 в.). Массу исторических сцен включает в себя книжная миниатюра, в особенности в огромном по объёму «Лицевом летописном своде» (1568–76). Возникновение в сер. 16 в. рус. книгопечатания даёт первые импульсы развитию местной гравюры, которая уже с первых своих шагов ориентируется не на иконные, а на западные ренессансные образцы.
К этой эпохе относится и целый ряд шедевров декоративного творчества, в т. ч. обильно украшенный узорной и сюжетно-фигурной резьбой по дереву трон (царское место) Ивана IV Грозного (1551), а также расшитые речным жемчугом плащаницы и др. изделия из мастерской Старицких и др. боярских семей (причём именно в этих грациозно-аскетичных, изысканно-строгих по стилю памятниках лицевого шитья средневековые, не склонные к резким новшествам навыки удерживаются, быть может, лучше всего). Декор в целом прихотливо усложняется, к техникам чеканки и скани добавляются финифть и чернь, орнаменты обретают миниатюрную мелкофигурную картинность, нередко воспроизводя образцы из живописи. Интенсивно развивается худож. литьё, в т. ч. колокололитейное искусство.
В живописи Вологды и Великого Устюга (а также Вологодского края, Обонежья и Двинской земли в целом) формируется особый раздел церковной изобразительной культуры; сначала эти «северные письма» (как их назвали значительно позднее, уже в 19 в.) следуют новгородской традиции, а затем складываются в самоценную худож. сферу, отмеченную духом благородной архаики.
В сер. 16 в. в состав Русского государства вошли земли Казанского ханства. Оно было создано в 1-й пол. 15 в. на землях Волжско-Камской Булгарии, входившей с сер. 13 в. в состав Золотой Орды. Этот регион являлся самым северным очагом исламской строительной и декоративной культуры. От булгарской монументальной архитектуры остались немногочисленные каменные сооружения 14 в. В 16 в. исламское зодчество продолжало существовать, но уже не в столь пышном, а более скромном, провинциальном варианте (в частности, в архитектуре Касимовского царства, где правили татарские князья, перешедшие на рус. службу). Многочисленные отзвуки местных доисламских, а также средневековых мусульманских традиций сохранились в декоративном творчестве татар и др. приволжских народов.
Зодчество 17 века
Последнее столетие древнерусского искусства особенно красочно и многообразно. После Смутного времени архитектурный процесс, в т. ч. и динамика строительных новаций, переживает бурный рост. Реформы Никона, направленные на всемерное усиление церковной власти, активно используют эстетический аргумент: символические образы рая или Иерусалима c его святынями, и прежде достаточно заметные в храмостроительстве, теперь обретают максимальную выразительность и размах (как в Новоиерусалимском монастыре близ Москвы, 1656–98). Монастыри (как и церковная архитектура в целом) выглядят всё наряднее благодаря постепенному отмиранию их оборонительных функций (таким становится, в частности, после достроек в 1680–90-х гг. Новодевичий монастырь в Москве). К числу лучших монументально-живописных архитектурных «картин» такого рода принадлежит кремль в Ростове Великом (1670–83; знаменательно, что это, собственно, огромный комплекс архиерейского дома, призванный подчеркнуть верховный авторитет церкви).
В храмах умножается число приделов, обходных галерей (гульбищ), декоративных кокошников, расположенных друг над другом ярусными рядами. Деревянное зодчество усложняет и обогащает свои рубленые объёмы за счёт криволинейных крыш – «бочек», разнообразия последовательно нарастающих структур – с четырьмя, шестью и восемью гранями (т. е. четвериков, шестериков и восьмериков) – и, наконец, стройных, высоких шатров. Все эти черты рус. деревянных храмов сложились значительно раньше, по мере их эволюции от церквей простейшего, «клетского» типа (которые не слишком отличались от больших изб), но лишь начиная с 17 в. большое число сохранившихся памятников позволяет по достоинству оценить их многообразие.
В старых и новых городах рядом с центрами соборной жизни строятся (причём всё чаще в камне) большие административно-хозяйственные кварталы с гостиными дворами, разного рода службами и домами купцов и знати. Традиционные, замкнутые в себе дома-крепости (палаты купцов Поганкиных в Пскове, 1620–30-е гг.) сочетаются с постройками, более открытыми к внешнему миру благодаря своей усложнённой планировке, комбинирующей хоромные структуры из сравнительно небольших пространственных ячеек (Теремной дворец в Кремле, 1635–36). Беспрецедентно возрастает значение декора: не ограничиваясь лишь отдельными акцентами и вставками, он теперь задаёт тон всему облику здания, целиком подчиняя себе некоторые его части (напр., узорные наличники). Чисто декоративный смысл обретают и островерхие силуэты кровель зданий, в особенности в многошатровых композициях (Успенская церковь Алексеевского монастыря в Угличе, 1628, знаменательно укоренившееся её название – «Дивная»; московский храм Рождества Богородицы в Путинках, 1649–52). Возрастает и роль полихромии: к контрасту белого камня и кирпичной кладки добавляются раскраска (часто имитирующая архитектурные детали), а также яркие поливные изразцы с орнаментами, а порой и фигурными изображениями.
Во 2-й пол. 17 в. главным средоточием этой тяги к визуальной пышности становятся многочисленные иконостасы с обрамлениями, покрытыми роскошной резьбой по дереву и золочением. Объёмные детали иконостасов (а также и собственно скульптура, всё активнее входящая в церковный обиход и освобождающаяся от своей прежней «иконности») резко видоизменяют традиционный облик древнерусского искусства, насыщая его прихотливой пластической игрой, связывающей мир сакральных образов с миром чувственно-земным.
На византийскую основу наслаиваются обильные влияния зап. искусства, наслаиваются в буквальном смысле, именно как новый декор на старую конструкцию. Дело не только в том, что на Русь, в особенности к концу века, приезжает для работы всё больше собственно зап.-европейских мастеров. Огромную роль играет и воздействие культур соседних народов – украинцев и белорусов: художники из этих земель привозят с собой новые виды творчества, такие, как белорусское «ценинное» (изразцовое) дело или белорусская прихотливая «резь» орнаментально-скульптурных иконостасов. И если ренессансный стиль прежде давал о себе знать на Руси лишь эпизодически, то теперь здесь складывается свой собственный (хотя и ограниченный в осн. декором, но всё же жизненный и яркий) вариант барокко. Его принято именовать «нарышкинским» или «московским» (среди лучших его образцов – церковь Спаса Нерукотворного в Уборах близ Москвы, 1694–97; ряд построек рязанского Солотчинского монастыря и Успенский собор Рязанского кремля, 1680–90-е гг.; церковь Покрова в Филях, 1690–93); близок к нему и «строгановский стиль» зодчества Поволжья и Прикамья (церкви Смоленская, 1694–97, Рождества Богородицы, окончена в 1718, обе в Нижнем Новгороде; и др.). К нач. 18 в. новые стилистические веяния обретают уже (следуя курсом рус. колонизации Урала и Сибири) огромный географический диапазон, распространяясь вплоть до Восточной Сибири.
Пышная риторика, придающая архитектурному декору скульптурную пластичность, динамически переосмысленные элементы античного ордера – эти свойства барокко к концу века преображаются уже в целостные системы, охватывая практически всю тектонику здания. Главным источником зап. архитектурных новаций служит уже не Италия (как в 15–16 вв.), но зодчество Голландии и Польши. Чрезвычайно важна и (как посредническая, так и самоценная) роль Украины, ведь именно там (к моменту её частичного присоединения к Руси) барокко было уже не только декоративным, но и синтетически-целостным стилем; так, возможно, что именно украинским в своих истоках является тип центрического ярусного храма, популярный в кон. 17 – нач. 18 вв. (церковь Знамения в Дубровицах близ Подольска, 1690–1704, и др.).
Живопись и прикладные искусства 17 века
Напряжённые споры старого с новым пронизывают и иконную живопись, что во многом связано с произошедшим в результате никоновских реформ сер. 17 в. церковным расколом, вызвавшим отделение старообрядцев (последние решительно отвергали иконы «нового письма», видя в них грубое нарушение «древлего благочестия»). Более архаически-строгие и монументальные «годуновские письма» сосуществуют ещё с кон. 16 в. со «строгановскими», где возобладала миниатюрная, по-своему ювелирная манера живописи, с красочными «эмалевыми» эффектами, усиленными золотом и серебром. В иконы всё чаще вводятся перспективно построенные пейзажи и интерьеры («нутровые палаты»), вместо всецело надмирного пространства перед зрителем предстаёт уже пространство во многом сценическое, скоординированное с его собственной бытовой средой. Эта связь со зрительским сознанием закрепляется и многочисленными деталями, повествовательно или аллегорически разъясняющими главный сюжет.
В церковных фресках, чаще уже не тектонически-строгих, а скомпонованных по «ковровому» (т. е. подчёркнуто декоративному, хотя по-прежнему тонко скоординированному с архитектурой) принципу, усиливается жанровое начало; сюда, как и в зодчество, проникает масса ренессансно-барочных компонентов благодаря заимствованию многих мотивов с зап. гравюр (фрески церкви Ильи Пророка в Ярославле, 1680–81, мастера Г. Никитин, С. Савин и др.).
Возникает самоценный портрет, пока существующий в осн. в виде парсуны иконного типа. Само творчество перестаёт быть по-средневековому анонимным: если от прежних столетий до нас дошло совсем немного художественно-биографических сведений, то 17 столетие уже богато именами художников, среди которых первое место занимает С. Ф. Ушаков, стремившийся сделать свои иконы натуроподобными с помощью светотеневой лепки иллюзорно-объёмных форм. С ликов и глаз эта «живоподобность» распространяется и на фигуры в целом, так что в иконостасах кон. 17 в. святые нижнего яруса «выходят» к зрителю уже не только в созерцательном предстоянии, но и почти как сценические персонажи. Наряду со «списками» (т. е. копиями) общероссийских святынь – Богоматери Владимирской, Смоленской Богоматери и др.– возникает всё больше местночтимых «изводов» (т. е. иконографических вариантов), где нередко заимствуются и западные, католические прототипы. Черты линейной перспективы, сценичности и др. новшества часто встречаются и в книжной живописи (к лучшим памятникам которой принадлежат миниатюры «Сийского Евангелия», 1693).
Общероссийским центром развития всех видов пластических искусств становится в 17 в. Оружейная палата Московского Кремля, сыгравшая роль позднесредневековой Академии художеств. Приёмы и мотивы декора впечатляют своим изобилием (напр., в «Большом наряде» царя Михаила Фёдоровича, ансамбле предметов для торжественных выходов, 1627–28). Круг орнаментальных, в значительной мере растительно-цветочных, «райских» мотивов расширяется почти безбрежно, охватывая чуть ли не весь известный мир (вплоть до Китая с его фарфором). Наряду с типичными для Средневековья кабошонами в ювелирном деле появляются и гранёные драгоценные камни. География ремёсел значительно обогащается: некоторые местные промыслы (такие, как холмогорская резьба по кости, сольвычегодские росписи по белой эмали – т. н. «усольская финифть», просечное железо Великого Устюга или сергиево-посадские деревянные игрушки и евлогии, т. е. паломнические сувениры) завоёвывают широкую популярность, расходясь по всей стране. В гравюре к концу века складывается (по примеру западных «летучих листов») феномен печатного лубка; сперва достаточно элитарно-городской, позднее он становится одной из ранних форм массовой культуры, религиозной или светской, порой остросатирической, даже публицистичной по своему содержанию.
Эпоха Петровских реформ
Преобразования Петра I направили течение худож. жизни в новое русло. Процессы, обозначившиеся уже в предыдущем столетии (возрастание роли светской культуры, укрепление связей с Западной Европой), теперь мощно активизировались, получив радикальные, по-своему революционные импульсы. Благодаря петровским реформам именно светские, а не религиозные произведения выдвинулись на авансцену жизни, обретая стилеобразующий смысл. Всё искусство было (в его эпохальных сверхзадачах) поставлено на службу уже не церковно-трансцендентным, лишь опосредованно политическим, а уже непосредственно политическим целям прославления государства и воспитания идеального гражданина. Россия вошла в период своего рода ускоренного Ренессанса, стремительно усваивая опыт Возрождения и барокко, причём уже не в синкретическом, «западно-византийском», как совсем недавно, а вполне цельном и вполне западном варианте.
В выстроенном по воле Петра I городе на Неве была заложена совершенно новая по сути система мира, который обустраивается не религией, а искусством. Поэтому вполне закономерно, что в перспективе веков весь исторический центр С.-Петербурга (ВНЮ) превратился в гигантское худож. произведение. Доминантой здесь стала Петропавловская крепость (с 1703) с одноимённым собором (1712–33, арх. Д. А. Трезини), зданием церковным, но пластически выражающим в первую очередь (благодаря своей колокольне со шпилем, вознесённым на огромную высоту) победную мощь и величие рос. монархии. Излюбленным архитектурным стилем начала века было голландское барокко (органично приспособленное, как и все последующие, новые для России стили, к местному пейзажу); его сравнительно скромные по масштабу здания определили первоначальный облик С.-Петербурга и его дворцовых окрестностей. Иностранные зодчие и художники заняли ведущее положение при императорском дворе, исполняя роль главных наставников в искусстве (их творчество принято именовать «россикой»), молодёжь же начали отправлять для обучения за рубеж. Однако активно формировалась и новая нац. школа: уже при Петре I, который стремился (по его собственным словам) показать, «что есть и из нашего народа добрые мастера», возникают проекты создания Академии художеств.
Регулярное градостроительство, до этого применявшееся в России лишь эпизодически, отныне превращается в универсальную систему, самым крупным и славным выражением которой служит «трезубец» проспектов, определивших структуру петерб. центра. В летней городской усадьбе Петра I (т. н. Летнем саду, 1704) и Петергофе (Петродворце, с 1714) создаются архетипические образцы регулярного парка западного типа; здесь доминируют (благодаря скульптурам, фонтанам, павильонам) эффектные природно-эстетические зрелища, резко контрастирующие с тихими монастырскими рощами, характерными для средневековой традиции. Ведущим типом зодчества окончательно становится не храм, а дворец, причём пышность дворцов последовательно возрастает. В их внешней структуре, а в особенности во внутреннем убранстве (с декоративной лепниной и скульптурами, живописными плафонами и панно, лаковыми росписями, зеркалами, наборными паркетами) динамически-бравурная, театрализованная патетика барокко со временем включает всё больше черт рококо, стиля, выделяющегося своей особо прихотливой, жеманно-игривой грациозностью.
В сфере изобразительных искусств самым знаменательным, по-своему эпохальным живописным жанром предстаёт портрет, постепенно освобождающийся от парсунной, во многом ещё иконописной манеры и обретающий барочно-рокайльное чувственное одушевление. Ранние успехи в этой области (напр., произведения И. Я. Вишнякова, И. Н. Никитина или А. М. Матвеева) выглядят на тогдашнем европейском фоне достаточно скромно, что, впрочем, не лишает их исторически-этапного значения: ведь именно в портрете наглядней всего воплощаются базисные для эстетики Нового времени принципы натуроподобия, проникновенного подражания природе. Развивается также и искусство портретной эмалевой миниатюры. Усиливается социальная роль гравюры, с мажорной энергией фиксирующей образы обновляющегося времени (произведения братьев И. Ф. и А. Ф. Зубовых). Работы одного из самых ярких мастеров «россики» Б. К. Растрелли (прежде всего его парадные изображения монархов) вводят и рос. скульптуру, прежде остававшуюся в тени прочих искусств, в круг творений «большого стиля», претендующего на универсальную нормативность.
Прикладное творчество, в свою очередь, обретает гос. статус: обслуживающие императорский двор и высшую знать ремёсла и промыслы, в т. ч. производство шпалер (гобеленов) и набивных ситцев, керамика, стеклоделие, камнерезное дело, претворяются (благодаря организации специальных мануфактур) в целые отрасли промышленности. Стараниями М. В. Ломоносова возрождается древнее искусство мозаики. Возникает ряд новых промыслов, в т. ч. ростовская финифть. Новации охватывают и церковное искусство, архитектонику его зданий, пластику и ритм его интерьеров и литургических предметов: так, серебряные раки св. Сергия Радонежского и Александра Невского, созданные во 2-й четв. – сер. 18 в. соответственно для Троице-Сергиевой и Александро-Невской лавр, представляют собой уже вполне целостные и самые крупные для рус. прикладного искусства того времени образцы «большого стиля» барокко.
Эпоха Просвещения
Рус. культура Просвещения достигает своего высшего расцвета в сер. – 2-й пол. 18 века, в годы правления Елизаветы Петровны и Екатерины II. Сама культура, продолжая петровские реформы, стремится просвещать своим величием и блеском, претворяясь в образы гармонического согласия между государством и его подданными, создающиеся (по словам архитектора Б. Ф. Растрелли) для «единой славы всероссийской». Эта программа сама по себе принимает неизбежно утопический характер, как бы низводя небо (в церковной традиции трансцендентное, потустороннее) на землю. Однако как раз в худож. творчестве этот утопический проект века Просвещения предстаёт наиболее продуктивным, украшая несовершенную жизнь примерами идеального совершенства. Причём (по логике просвещённо-монархической культуры) сами императрицы выступают, если и не главными создательницами, то, по крайней мере, главными вдохновительницами всего идеально прекрасного. Даже окказиональная, временная архитектура (т. е. сооружения типа театральных декораций, создававшиеся для оформления празднеств, торжественных монарших въездов, а также погребальных церемоний) порой воплощает в себе самые яркие и смелые стилистические новшества.
Дворцовое строительство обретает особый пространственный размах и живописное великолепие; этапным в этом плане явилось творчество Б. Ф. Растрелли. Его произведения, среди которых наиболее известны Большой (Екатерининский) дворец в Царском Селе (1752–57) и Зимний дворец в С.-Петербурге (1754–62), представляют собой, как правило, целые ансамбли, ритмически объединённые с помощью пластически разнообразных фасадов и внутренних, ещё более декоративно-пышных, парадных анфилад. Те же принципы феерически-пышного монументализма присущи и церковным зданиям Б. Ф. Растрелли, прежде всего комплексу петерб. Смольного монастыря (1748–64). В русле дворцовой архитектуры продолжает развиваться и стиль рококо, придающий в своих орнаментальных фантазиях всем материалам почти чувственно ощутимый трепет эстетического бытия, услужливо-комфортно сопряжённого с человеком.
Роскошные городские и усадебные дворцы возводят и придворные вельможи – именно в этом русле кристаллизуется феномен усадьбы как изысканного «храма муз» среди окружающей «сельской простоты» (Кусково, ныне в черте Москвы, осн. строительство – 1750–60-е гг., архитекторы Ф. С. Аргунов, К. И. Бланк и др.). Наряду с приезжими иностранцами всё более значительную роль играют отныне и рус. зодчие (А. В. Квасов, С. И. Чевакинский, Д. В. Ухтомский и др.). Творческой лабораторией барокко (причём отнюдь не провинциальной по отношению к Великороссии, а постоянно опережающей её своими новациями) по-прежнему остаётся искусство Украины, в т. ч. её монастырская архитектура (где первое место занимает ансамбль обновлённой Киево-Печерской лавры, созданный после пожара 1718).
Период классицизма
В 3-й четв. 18 в. стилистические вехи сменяются: в культуре утверждаются принципы классицизма, стиля несравнимо более рационального, гармонически уравновешенного, отвергающего чрезмерную узорность и велеречивую динамику форм ради логически чётких плановых и пластических решений. Ордерную систему отныне стремятся воссоздать в её античной чистоте, однако важную роль в этом процессе играет и обращение к классицизирующим тенденциям Ренессанса, в первую очередь к наследию А. Палладио (ключевыми для архитектуры рос. палладианства фигурами стали Ч. Камерон и Н. А. Львов). Как раз в этот период эстетика рус. Просвещения обретает максимальную нормативную определённость (благодаря образованию в 1757 в С.-Петербурге Академии художеств), а градостроительство окончательно утверждается в своих новых масштабах и принципах, последовательно охватывая всю территорию империи и осмысляя города как системы парадных, лучами расходящихся от центра ансамблей.
Вновь возрастает историко-худож. значение Москвы, где тоже возводятся монументальные здания и ансамбли, значительно обновившие ещё во многом средневековый облик старой столицы. Их архитектурный стиль эволюционирует от патетически-живописных образов В. И. Баженова к гармонически-величавым, воистину градообразующим постройкам М. Ф. Казакова, наглядно (как это свойственно крупным классицистическим комплексам в целом) размечающим структуру целых кварталов и улиц. Выдающуюся роль в развитии зодчества раннего и зрелого классицизма сыграли также К. И. Бланк, Ж. Б. Валлен-Деламот, А. Ф. Кокоринов, А. Ринальди, Ю. М. Фельтен, Дж. Кваренги, И. Е. Старов.
Именно в эту эпоху сложился классический тип усадьбы (классический как в стилистическом, так и в общеисторическом смыслах); архитектура, садово-парковое и прикладное искусство, а также (в случае активного меценатства хозяев) литературные и театрально-зрелищные виды творчества тут синтетически объединялись, превращая усадьбу в рукотворно-природное средоточие худож. гармонии, а в историко-ретроспективном восприятии – в эстетическое олицетворение России. В числе лучших примеров такого рода архитектурно-пейзажного строительства – возведённые в последние десятилетия 18 – нач. 19 вв. усадьбы Архангельское близ Москвы, Останкино (ныне в черте Москвы), а также созданные в Тверской губ. по проектам Н. А. Львова Никольское-Черенчицы и Знаменское-Раёк.
В связи с образованием Академии художеств устанавливается иерархия жанров, возникают жанры, прежде вообще отсутствовавшие либо представленные лишь маргинально: историческая живопись (родоначальником которой был А. П. Лосенко), бытовая картина, пейзаж (Ф. Я. Алексеев, Семён Ф. Щедрин). Но всё же средоточием самых значительных живописных новаций по-прежнему остаётся портрет, достигающий в творчестве Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, С. С. Щукина и В. Л. Боровиковского, а также в скульптурах Ф. И. Шубина особой репрезентативной грации и тонкой проницательности, порой яркой бравурности образов. Одной из вершин мировой монументальной скульптуры и величайшим шедевром «россики» стал памятник Петру I в С.-Петербурге (1768– 1782, скульптор Э. М. Фальконе). Свидетельствами же значительных успехов собственно рос. скульптурной школы явились произведения Ф. Г. Гордеева, М. И. Козловского, И. П. Прокофьева и И. П. Мартоса. Именно в этот период распространился новый для России жанр скульптурного надгробия.
К кон. 18 в. всё чётче определяются раннеромантические веяния, проступающие в причудливых формах псевдоготического зодчества (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков и др.), сочетающего стилизацию готики с древнерусскими мотивами. Сходные веяния проявились и в моде на английского типа парки со свободно-пейзажной планировкой или (как их называл писатель и учёный А. Т. Болотов) «нежно-меланхолические» сады. Сентиментализм предопределил образный строй многих портретов, в особенности женских. Недолгий период правления Павла I, период по-своему причудливо-романтический, значительно усиливает эти тенденции, воплотившиеся, в частности, в Михайловском (Инженерном) замке в С.-Петербурге (1797–1800, архитекторы В. И. Баженов, В. Ф. Бренна), но наметившиеся ещё раньше в дворцово-парковых ансамблях в Гатчине (с 1766, архитекторы Бренна, Н. А. Львов и др.) и Павловске (с 1782, арх. Ч. Камерон и др.). Наравне с жизнью разума, в искусстве всё явственней даёт о себе знать и жизнь души; сквозь рациональную систему, причём в творчестве одних и тех же мастеров, просматривается иррационально-мечтательная стихия (так, И. П. Мартос в своих надгробиях предвосхищает романтизм, в общественных же монументах примыкает к позднему классицизму). Классицистом-романтиком был П. Гонзаго, который в кон. 18 – нач. 19 вв. впервые в России придал театральным декорациям статус особого, весьма значительного вида искусства.
Искусство 18 века в провинции
Столичная худож. культура в век Просвещения, достигнув оптимального своего выражения в С.-Петербурге и Москве, предстала в качестве универсального эталона для всех региональных и нац. культур огромной империи; с особой наглядностью эти универсальные претензии проступили в рамках классицизма с его пафосом всеобщего эстетического мироустройства.
Вскоре после образования Академии художеств, призванной возглавить процесс развития нового искусства, в 1762 была создана «Комиссия о каменном строении С.-Петербурга и Москвы», которая занялась разработкой проектов и для провинциальных городов (в это и последующие десятилетия было создано и в значительной мере воплощено в жизнь более 400 таких градостроительных проектов). Были преобразованы исторические центры Твери, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля, Вятки, Симбирска и многих других губернских (а наряду с ними и уездных) городов – с чётким разграничением парадных, административных, хозяйственных и окраинных зон, а также фиксацией границ кварталов при помощи фасадов, выведенных на красную линию улицы, и специальных угловых зданий. Унификация типов зданий (напр., домов дворянских собраний с обязательным торжественным портиком снаружи и двусветным бальным залом внутри) сочеталась с единообразной их раскраской.
Но на деле единый «большой стиль» отнюдь не возобладал в виде безусловного абсолюта, а лишь (если речь шла о старых городах) оттенил и обогатил их традиционную смешанную, сельско-городскую структуру. Старинные городские центры порой плотно заслонялись или обрамлялись новой архитектурой (как, в частности, в Твери или Симбирске), но в целом соседствовали с ней на равных правах (образцовым примером может служить Ярославль с его древними храмами, включёнными в 18 в. в новые видовые перспективы). Архаика удерживалась в провинции особенно прочно, проявляясь в живописных средневеково-барочно-классицистских симбиозах (как в планировке в целом, так и в структуре отдельных зданий) и тем самым доказывая свою непреложную актуальность. В целом же классицизм послужил универсальным языком, который сглаживал контрасты традиций, облегчая взаимную адаптацию культур (в случае со строительством в белорусских и прибалтийских землях, присоединённых в 18 – нач. 19 вв. к Российской империи).
Реальная многослойность культуры наглядно подтверждалась мощными её пластами, сугубо антиклассическими по своему духу. Высокого расцвета достигло церковное деревянное зодчество Севера – Карелии и смежных с ней вологодских и архангельских земель (в течение 18 в. сложился, в частности, знаменитый комплекс в Кижах с доминирующей в нём 22-главой Преображенской церковью; ВНЮ). Наряду со столь сложными по силуэту храмами строились и совсем простые клетские церкви, напоминающие избу с крестом. К древним приёмам плотницкого мастерства и исконно средневековым структурам церквей (часто увенчанных стройным шатром) добавлялись новые элементы (типа ордерных фронтончиков или карнизов), но лишь в виде отдельных вставок, не затрагивающих величаво-архаичной сути. К 18 в. относятся и самые старые (из дошедших до нас) образцы рус. крестьянских изб; именно на Севере благодаря высоким подклетам они достигали особой масштабности. Изба, простая клетская церковь и небольшой, тоже деревянный форт (острог) – такими были главные архитектурные приметы России в процессе продвижения её границ на восток вплоть до Аляски.
Особая худож. цивилизация сложилась в раннепромышленных очагах Урала и Западной Сибири. Зрелый архитектурный классицизм, развитые формы регулярной планировки (заводских поселений), новые виды худож. промышленности (камнерезное дело и чугунное литьё) сосуществовали здесь с массой примеров причудливо-контрастного совмещения традиции с новизной: таковы, в частности, «невьянские иконы» с их вполне натуральными пейзажными деталями. Но ещё более знаменательна «пермская деревянная скульптура» (название условно: Пермским краем этот феномен отнюдь не ограничен). Лишь отчасти иконные (как в рельефных образах Николы Угодника или Параскевы Пятницы), большей же частью западные иконографические типы (таковы и особо характерные для этого круга произведений фигуры скорбно-задумчивого «Христа в темнице» или «Спаса Полунощного») обрели тут черты фольклорного «примитива», подкупающего своей эмоциональностью, силой открытого чувства.
Именно в данный период впервые полномасштабно выявились черты «примитива» как особой творческой сферы, не вписывающейся в строгие рамки единого «большого стиля». В эту сферу вошли провинциальный портрет (всероссийский по диапазону своего распространения), а также лубок и др. формы городской или смешанной крестьянско-городской культуры, в т. ч. фольклорные росписи, сосредоточенные на отдельных предметах типа мебели или прялок либо покрывающие порой целые стены. Воспроизводя в более дешёвых материалах и более скромных масштабах барочно-классицистические приёмы и мотивы, они придавали им наивную непосредственность и задушевность, в свою очередь демонстрируя контрасты разных культур, не сводимых к единой парадигме.
О живой культурной многоукладности постоянно свидетельствовало и религиозное искусство, причём разных вероисповеданий. Свойственные 18 в. попытки внести стилевое единообразие в архитектуру старинных православных храмов и монастырей, мечетей Приволжья или дуганов (буддийских храмов) Забайкалья постоянно приводили не только к живописным, достаточно выразительным контрастам, но и к прямой эклектике. Поставив впечатляющую задачу всеобщего эстетического синтеза, «век Разума» не сумел её с исчерпывающей полнотой разрешить.
Русский ампир
В нач. 19 в. классицистское зодчество вступило в позднюю фазу, которую называют «александровским классицизмом» либо (на общеевропейский лад) стилем ампир (от франц. empire – империя). Имперский пафос архитектурных образов действительно достиг в этот период своего максимума, после 1812 перекликаясь с чувством патриотического подъёма, охватившим рос. общество в связи с разгромом армии Наполеона. Крупнейшие строительные свершения принимают вид широко распахнутых «залов славы», образно свидетельствующих как о военных триумфах государства, так и о его величии в целом. В С.-Петербурге эта архитектурно-пространственная система была закреплена зданиями Казанского собора (1801–11, арх. А. Н. Воронихин), Биржи с Ростральными колоннами (1805–10, арх. Ж.Тома де Томон) и Адмиралтейства (1806–23, арх. А. Д. Захаров). Высшим же выражением и в то же время блестящим итогом этого процесса явилось творчество К. И. Росси; спроектированные им здания и ансамбли, в т. ч. Главный штаб с центральной аркой (1819–29), придали целому ряду площадей и проспектов сев. столицы подобие грандиозного, застывшего на века праздничного зрелища, поражающего своими панорамами и перспективами.
В целом ампирные структуры, с их мощными колоннадами на фоне гладких стен, сдержанно-лаконичны, однако скульптура и архитектурный декор (где доминируют античные аллегорические мотивы воинской славы) занимают в них существенное место, эффектно усиливая зрительный пафос образов. Знаковыми фигурами ампирного зодчества были также О. И. Бове, А. Г. Григорьев, Д. И. Жилярди, В. П. Стасов, в скульптуре же на первый план выдвинулись В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пименов, И. И. Теребенёв, Ф. П. Толстой.
Ампир не только завершил просветительский классицизм, но и ускорил его перерождение, сближение с романтизмом (что с особой остротой выразилось в архитектурном творчестве О. Монферрана и А. Л. Витберга); этапным в этом плане зданием явился монферрановский Исаакиевский собор в С.-Петербурге (1818–58). Идеи политического самоутверждения, патетика настоящего времени теперь всё чаще сменялись поэтическими грёзами об общественном идеале, который мог являться мысленному взору в различных исторических обличьях. «Николаевский классицизм» (хронологически связанный с царствованием Николая I) уже не отличался стилистической цельностью и перестал быть всеобщей нормой; широко распространились не только антикизирующие, но и средневековые, в т. ч. русско-византийские, архитектурные реминисценции, программно выраженные в московском храме Христа Спасителя (1837–83, арх. К. А. Тон). Сама античность понималась теперь более конкретно, в виде «греческой» или «римской» («помпеянской») манеры; вкупе с готикой (в свою очередь более исторически точной, уже не псевдо-, а неоготикой), а также неоренессансным и необарочным стилями все они составили пёстрый репертуар исторического романтизма, варьирующего свои образы в зависимости от пожеланий заказчика и функции здания (проекты и постройки А. П. Брюллова, Н. Л. Бенуа, М. Д. Быковского, А. И. Штакеншнейдера и др.).
Вопреки масштабной попытке всё же вернуться к единой, хотя и изменённой норме (в образцовых русско-византийских проектах церквей, разработанных под руководством Тона) реальная строительная практика представала разноликой, всё в большей мере следуя частным вкусам. При этом активно развивалась и инженерная мысль, осваивающая возможности новых конструкций и материалов (в т. ч. металлических каркасов).
Эпоха романтизма
Иерархия видов творчества резко изменилась. Живопись и графика заняли отныне по отношению к зодчеству уже не подчинённое, а равноправное положение. Идиллические образы мастеров старшего поколения (крестьянские жанры и портреты А. Г. Венецианова, типажи и портреты В. А. Тропинина), задушевно-лирические живописные и графические портреты О. А. Кипренского и, наконец, огромные многофигурные полотна К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни и А. А. Иванова (которые стремились превратить свои исторические и религиозные сюжеты в итоговые, волнующе-таинственные суждения о судьбах человечества) – таким был магистральный курс романтизма в изобразительном искусстве. Сам художник порой (подобно А. А. Иванову в период работы над «Явлением Христа народу», 1837–57) начинал ощущать себя историческим «мессией». Но в целом романтизм был далеко не однороден: наряду с монументальными устремлениями в архитектуре и живописи закрепился (прежде всего в полотнах А. Г. Венецианова и художников его школы) и специфически камерный его вариант, близкий зап.-европейскому бидермейеру и полный уютной задушевности.
Церковная живопись (в её т. н. академическом варианте) следовала классицистско-романтической стилистике, постоянно воспроизводя в иконах и росписях композиционные и колористические принципы светской картины. Однако параллельно бытовала и средневековая по духу своему, допетровская иконописная традиция, выдающийся вклад в сохранение которой внесли старообрядческие мастера. Благодаря им поддерживалось также искусство рукописной книги и религиозного худож. литья.
Высокая поэтическая воодушевлённость светского «большого стиля» К. И. Росси, К. П. Брюллова и А. А. Иванова, окрашенного в эмоционально-романтические тона, но сохраняющего классицистский размах, позднее нередко ностальгически воспринималась как золотой век нового рос. искусства. Этот золотой век ярко проявился и в прикладном творчестве: строгое единство ампирного стиля (подразумевающее целостную разработку всех элементов здания, от общего плана до светильников и дверных ручек) наложило неповторимый отпечаток на фарфор, стекло (в т. ч. хрусталь с «алмазной» гранью), каменные вазы, мебель. Наряду с парадно-декоративным направлением тут тоже сложился свой бидермейер, проникнутый лиризмом приватной жизни. Вскоре и в этих сферах распространились историко-романтические стилизации (такова, в частности, необарочная мебель фирмы «Гамбс»), подражания ренессансу, рококо, готике, мавританскому искусству. В 1830-х гг. зародилось и специфически неорусское декоративно-прикладное направление, связанное в первую очередь с художественно-археологической деятельностью Ф. Г. Солнцева.
Порывистая, стихийная мечтательность романтизма нашла наиболее естественное выражение в пейзаже, который лишь теперь развернулся в полную образную силу. Художники обратили свои взоры от столичных дворцов и парков к провинции, увлечённо составляя как бы поэтическую карту огромной страны (знаменателен пример братьев Г. Г. и Н. Г. Чернецовых, изобразивших в 1838–51 чуть ли не всю Волгу в огромной серии акварелей с видами её берегов). Не только Италия, этот блаженный «край искусств» для всего романтизма в целом (где Сильвестр Ф. Щедрин в 1820-х гг. заложил основы рус. цветотонального пейзажа), но и собственное отечество представало эстетически притягательным, причём и в ближних, и дальних своих пределах. Диалоги нац. культур обрели в эту пору (и не только в пейзаже) невиданную активность и чуткость.
Если в прошлом веке и даже ещё совсем недавно художники (подобно украинцам Д. Г. Левицкому, В. Л. Боровиковскому, И. П. Мартосу, либо видным портретистам чеченцу П. З. Захарову и белорусу С. К. Зарянко), приезжая в центр империи, оставляли свои родные края в провинциальной тени, то теперь, в эпоху романтических «живописных путешествий», эстетический баланс центра и регионов претерпел ощутимый сдвиг. Создавая свой цикл офортов «Живописная Украина» (1844), Т. Г. Шевченко наглядно фиксировал эту худож. центробежность. Симптоматичен и пример И. К. Айвазовского, который стал крупнейшим маринистом-романтиком, живя преимущественно в родной Феодосии (и не раз выразив в своих образах причастность к судьбам своей исторической родины – Армении). Образы Крыма и Кавказа в целом теряют прежний этнографизм, представая органической частью расширяющегося эстетического сознания. Децентрализации культуры способствует и тот факт, что теперь и на местах иногда возникают собственные худож. училища – такие, как первая в провинции Арзамасская худож. школа, соответствующее отделение Виленской (Вильнюсской) академии или архитектурное училище в Саранске.
Симптомы подобного сдвига ощущаются и в архитектуре. Нормативная регулярность образцового, единообразного для всей империи строительства всё чаще даёт явные сбои, в особенности на Кавказе с его сложными сплетениями западных и восточных, христианских и мусульманских традиций: иногда после присоединения осн. части Кавказа к России города́, подобно Эривани (Еревану) или Гюмри в 1-й пол. 19 в., наспех застраиваются на манер военных поселений. Однако романтический историзм намечает перспективы национальных худож. возрождений: так, Г. Г. Гагарин наряду с альбомом «Живописный Кавказ» (1857) создаёт и частично воплощает в жизнь проекты храмов со смешанного типа византийско-вост. декором, тонко учитывающим местные эстетические навыки. Последние так или иначе поддерживают свою вековую преемственность, лучше всего сохраняющуюся в небольших городках и горных селениях-крепостях. Растёт известность кавказского декоративного искусства, в т. ч. промыслов нагорного Дагестана (парадным оружием из аула Кубачи снабжаются целые гвардейские части).
Религиозные верования в свою очередь мощно способствуют усилению локального колорита. В пределах черты оседлости, в местах компактного проживания евреев в Польше, Литве, Украине и Белоруссии развивается иудаистская худож. культура (орнаментика надгробий и свитков Торы, различные её ювелирные украшения типа «короны», светильники-«меноры» и т. д.); полная библейской символики, она, как и архитектура синагог, активно перенимает и мотивы искусства окружающих народов. Важным фактором прикладного творчества народов Кавказа и Поволжья является орнаментальная стилистика, равно как и конкретные предметы, сопряжённые с мусульманской культовой практикой (в первую очередь, молитвенные коврики и листы-«шамаили» с каллиграфическими изречениями из Корана). В архитектуре мечетей на смену разностильной эклектике приходит историзм, варьирующий средневековые образцы. В Бурятии свой центральноазиатский, практически не связанный с Европой язык окончательно обретает искусство местного буддизма, воплощённое в зодчестве ламаистских монастырей-дацанов, ярко раскрашенных, с китайского типа крышами с загнутыми углами, а также в столь же ярко красочной культовой скульптуре и живописи.
2-я половина 19 века
К сер. 19 в. изобразительное искусство начинает уже решительно опережать зодчество по силе и широте своего общественного резонанса. Живопись чутко отликается на «проклятые вопросы» времени, зачастую приближаясь по глубине своих образов к тогдашней литературе. Мечтательно-утопические настроения прежних лет сменяются острым чувством духовного неблагополучия и тоски. Параллельно этому и романтизм в искусстве, равно как и классицистские пережитки, всё заметнее вытесняются стилем гораздо более драматичным, который принято называть реализмом. Стили, однако, не просто чередуются, реализм утверждается не вместо, а, скорее, внутри романтизма, сохранив его свободолюбие и страстную веру в верховенство творческого воображения (суммирующего прошлое и предугадывающего будущее), но придав всем этим свойствам гораздо более критическую направленность.
Провозвестником новых веяний выступает тиражная графика в виде карикатур и иллюстраций, публикуемых в журналах и специальных альбомах (работы Г. Г. Гагарина, А. А. Агина и др.). Иронически-карикатурны ранние образы П. А. Федотова, позднее создавшего свои известные картины в духе откровенно-трагического «чёрного романтизма» (в целом не получившего в рос. изобразительном искусстве значительного распространения). Сатира, трагедия, бидермейеровский юмор сменяют друг друга в жанровых картинах В. Г. Перова, лучшие же из его портретов впечатляют своим острым психологизмом. В искусстве вздымается целая волна противоречивых чувств и мыслей, вскоре устремившаяся по руслу, проложенному Товариществом передвижных худож. выставок. Организованное в 1870 под знаменем борьбы с отвлечёнными от реальной жизни академическими программами, оно начинает устраивать экспозиции с участием лучших рос. мастеров того времени (Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи и др.), причём выставки эти проходят не только в С.-Петербурге и Москве, но и в крупнейших городах рус. провинции, Украины, а также в Витебске, Кишинёве, Риге, Вильно и Варшаве. Благодаря этому живопись, всё активнее апеллирующая к публике, становится самоценным публицистическим (из-за сенсационности многих произведений) и по сути общероссийским фокусом социальных настроений и чаяний.
Центральное место на выставках передвижников заняли жанрово-бытовые мотивы, явившие в совокупности своей как бы «всю Россию», запечатлённую в её многоликой повседневности (именно в этой сфере создали лучшие свои картины А. И. Корзухин, В. Е. Маковский, В. М. Максимов, И. М. Прянишников, К. А. Савицкий, Н. А. Ярошенко). Обновились концепции религиозной живописи (прежде всего в картинах Н. Н. Ге), исторической картины (в его же произведениях, а также в исключительных по своей образно-поэтической масштабности и социальному резонансу полотнах И. Е. Репина и В. И. Сурикова) и портрета; в самых характерных своих образцах все они теперь обращались к зрителю с вопросом, порой нелёгким, даже мучительным, предполагающим активное духовное соучастие. Проникновенно-лирическими (у А. К. Саврасова и Ф. А. Васильева) или эпическими (у И. И. Шишкина) настроениями обогатились пейзажные образы. Большие мастера всё чаще исполняли роль «властителей дум»: так, близкий к передвижникам В. В. Верещагин, который разрушил привычные стереотипы батальной картины, обнажив страшную «изнанку войны», резко усилил своими произведениями либерально-пацифистские настроения. Он же стал и крупнейшим мастером рус. ориентализма (направления, образно открывающего для Европы страны Востока).
Позднеромантическая стилистика передвижников вкупе с навыками натуральной школы (как можно назвать их искусство по аналогии с литературой) с годами включала в себя всё больше черт импрессионизма. У ряда передвижников (напр., в портретах и сюжетных картинах И. Н. Крамского или пейзажах А. И. Куинджи), а ещё раньше в «Библейских эскизах» А. А. Иванова (кон. 1840-х – 50-е гг.) проявилось предзнаменование символизма с его поэтикой волнующей тайны, проступающей сквозь внешнеэмпирические покровы бытия. Предчувствия символизма проступили и в живописи в целом: особо знаменательна в этом плане фигура польского мастера Г. И. Семирадского, активно участвовавшего в рус. культурной жизни. Тот же курс наметился и в скульптуре: если в основном в ней (в особенности в скульптуре монументальной, известнейшими образцами которой стали памятник «Тысячелетию России» в Новгороде, воздвигнутый по проекту М. О. Микешина в 1862, и московский памятник А. С. Пушкину работы А. М. Опекушина, 1880) преобладал романтизм, то позднее творчество виднейшего рос. ваятеля этого периода М. М. Антокольского уже всецело символистично и обращено к «вечным тайнам» жизни. Свой эстетический мир начинает формировать во 2-й пол. 19 в. рос. фотография (А. И. Деньер, А. О. Карелин и др.), на данной ранней, «пикториальной» своей стадии ещё стилистически зависимая от живописи.
Архитектура сер.– 2-й пол. 19 в. развивалась скорее вширь, чем вглубь, активно варьируя разные исторические стили и осваивая новые строительные приёмы, в т. ч. большепролётные стеклометаллические покрытия с передовыми сетчатыми конструкциями В. Г. Шухова. Резко усилилось пространственное значение структур, регулирующих движение больших людских масс, таких, как вокзалы, крытые рынки, выставочные комплексы; возник новый тип торговой галереи-пассажа. Решающим фактором всё чаще оказываются не соображения гос. престижа (как во времена ампира), а личная предпринимательская инициатива, о чём свидетельствуют многочисленные доходные дома, резко вклинивающиеся в силуэты городов.
Выбор стиля в свою очередь всё чаще диктуется личными или социально-групповыми пристрастиями: «русский стиль» (прежде существовавший в относительно цельной русско-византийской версии) распадается на неофициально-либеральный (неорусский) и официальный варианты. Первый (представленный произведениями В. А. Гартмана и И. П. Ропета) воплощается в выставочных павильонах, а также в небольших частных домах (в т. ч. тех, что были построены ими в 1872–73 в Абрамцеве), имитирующих строительные и орнаментальные приёмы крестьянского искусства. Для второго же, обычно именуемого «стилем Александра III», типичны более парадные и величавые образы, воспроизводящие характерные черты нац. зодчества 17 в. (таковы, в частности, здания, ставшие провозвестиями этого стиля, – Исторический музей в Москве, созданный по проекту В. О. Шервуда, 1875–83, и храм Спаса на Крови в С.-Петербурге, архитектор А. А. Парланд, 1884–1907).
Декоративно-прикладные изделия всё чаще являют собой не просто исторические ретроспекции, но как бы изысканные мозаики разных эпох (таковы знаменитые пасхальные яйца и др. ювелирные изделия фирмы Фаберже, существовавшей с 1870). Архаические узоры, характерные для одного материала, часто воспроизводятся в другом (напр., резная, изначально фольклорная деревянная посуда повторяется на «неославянский» лад в фарфоре, стекле и металле). Диалог фольклора и «высоких стилей» предстаёт всё более оживлённым. Но в целом промышленный прогресс, внося много новшеств (поточно-механическая прессовка орнаментов, использование химических красителей, чёткое разделение функций между художниками, исполнителями и машиной), всё резче нарушает границы декоративного фольклора, сближая его с коммерческим китчем (типа обёрток от мыла или фигурных бутылок, всё чаще украшающих интерьер крестьянского жилища). Поэтому заботы о возвышении статуса худож. промышленности выходят на первый план, приводя к эпохальным общестилистическим сдвигам.
Символизм и модерн
В 1870–90-х гг. в России возникают первые центры модернизма, «нового искусства», важнейшими (скорее параллельными, чем чередующимися) направлениями которого явились импрессионизм, символизм и модерн. Рос. импрессионизм не был специфически групповым течением, он лишь ярко преломился в творчестве многих, в т. ч. и некоторых крупных, мастеров рубежа эпох (в частности, в живописи И. Е. Репина, И. И. Левитана, В. А. Серова, И. Э. Грабаря, а также в скульптуре П. П. Трубецкого; «чистыми импрессионистами» принято считать немногих, в первую очередь живописца К. А. Коровина). Символизм (проникнутый влечением к абсолютной, «запредельной» красоте, лишь смутно проступающей в реальном мире и находящей оптимальное выражение в языке намёков и символов, исторически-ретроспективных или пророческих) предстаёт по сути почти синонимом модерна, наполняя его поэтическим содержанием; последний же вводит это содержание в сферы конкретных видов искусства, в т. ч. архитектуры и прикладного творчества.
Первый центр новых худож. исканий сложился (в 1870-е гг.) в Абрамцеве, подмосковном имении предпринимателя и мецената С. И. Мамонтова; здесь доминировал интерес к средневековой и более древней, ещё языческой старине, выразившийся, не считая станкового творчества, в неорусских постройках, в стремлении возродить исконную красоту крестьянских худож. промыслов (позднее ту же линию продолжила княгиня М. К. Тенишева в своём смоленском имении Талашкино), а также в театральных постановках, проникнутых тем же национально-романтическим духом (сценография М. А. Врубеля, В. Д. Поленова и др.). Вторым важнейшим центром стало петерб. объединение «Мир искусства», образовавшееся в 1898 на базе дружеского кружка, куда входили, среди прочих, А. Н. Бенуа и С. П. Дягилев; в их среде преобладали, скорее, западнические вкусы, а идеалом считался век Просвещения с его театрализованно-грациозной и лукавой культурой.
Все виды и жанры искусства впечатляюще преобразились, синтетически совмещаясь. Лучшие мастера рубежа веков, в первую очередь М. А. Врубель и В. А. Серов, не просто доводят до высшего совершенства какой-то один излюбленный тип картины (у Врубеля это «картина-сказка», а у Серова портрет), но стремятся преобразить язык живописи и графики в целом, придав ему самоценное, как бы равноправное сюжету, драматически-грозное или лиричное обаяние. Исторический жанр сближается с фольклором (В. М. Васнецов), бытовой картиной (А. П. Рябушкин, С. В. Иванов), а также с религиозной живописью, в т. ч. иконописной и монументальной (этапными в данном плане явились работы В. М. Васнецова во Владимирском соборе в Киеве, 1885–96, а также монументальные и станковые работы М. В. Нестерова). В исторических же образах петербургских мирискусников возобладала острая ирония (версальские серии А. Н. Бенуа, с 1897); гротеск нередко совмещался с эротикой (К. А. Сомов) и трагическим отчуждением (городские мотивы в живописи и графике М. В. Добужинского).
Романтико-символистские и импрессионистские тенденции самобытно претворились в лирическом «пейзаже настроения», лучшие образцы которого создали И. И. Левитан и В. Д. Поленов. Пейзаж и др. жанры всё чаще обретали подобие зримой легенды, как в меланхолически-«потусторонних» усадебных образах В. Э. Борисова-Мусатова, мифопоэтических картинах Н. К. Рериха или мажорных мотивах рус. провинции в живописи Б. М. Кустодиева. В скульптуре темпераментный импрессионизм П. П. Трубецкого послужил основой для символистских поисков А. С. Голубкиной, Н. А. Андреева и А. Т. Матвеева. Самобытные варианты национально-романтического модерна, неофольклорного или стилизованно-«средневекового», разработали скульпторы С. Т. Конёнков и Д. С. Стеллецкий.
«Новая архитектура», т. е. уже не неорусские её преддверия, а собственно модерн (в творчестве Н. Л. Кекушева, Ф. И. Лидваля, Ф. О. Шехтеля и др.), тесно сблизилась с изобразительным и декоративным искусством. В отличие от архитектурного романтизма и характерных для того времени неоклассических и прочих ретро-вариаций (архитекторы Р. И. Клейн и др.), она как бы переплавила стили прошлого, получив в результате целостный и совершенно необычный, экстравагантный феномен, где на смену ордерным системам пришло биоморфное начало, следующее ритмам первозданной натуры, хотя и с массой исторических, но несравнимо более свободных, чем в романтизме, порой полуфантастических ассоциаций. В постройках (среди которых первоначально доминировали частные особняки) возобладали криволинейные, словно перетекающие одна в другую пространственные конфигурации, а в их декоре – мотивы зыбкой природной стихийности, явленной в процессе становления и роста.
Вся духовная атмосфера модерна с его «борьбою за стиль» благоприятствовала успехам декоративно-прикладных видов творчества и дизайна (который именно тогда обрёл самостоятельный статус в качестве искусства универсального моделирования среды). Были созданы многочисленные шедевры книжного искусства: издания, изысканно оформленные А. Н. Бенуа, И. Я. Билибиным, Добужинским, Е. Е. Лансере, С. В. Чехониным, превратились в настоящие «книги художников», привлекающие ритмически-образным единством своего декора. Но едва ли не ярче всего эти синтетические поиски проявились в театре: если раньше художники сцены играли обычно чисто вспомогательную роль, то теперь они (напр., в лице Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа или А. Я. Головина) превратились в равноправных соавторов спектакля, окончательно уподобившегося живой красочной картине. Более того, именно благодаря этому «живописному театру» (а конкретно – в русле антрепризы С. П. Дягилева, с 1907) рус. искусство, прежде известное за рубежом лишь эпизодически, впервые обрело прочный международный авторитет.
Свойственные символизму и модерну утопические чаяния, страстная вера в духовно-преображающие (в т. ч. и социально-преображающие) функции искусства проявлялись во всех видах творчества. Но эстетические утопии были неразрывно сопряжены с красотой упадка, «декаданса», острым сознанием исторической обречённости. Совпадая с ранними фазами рос. массовой культуры, модерн охватил и все виды тиражной графики, от рекламы до массмедиального дизайна в целом (вплоть до заголовка большевистской «Правды»). Когда революция (в виде «генеральной репетиции» 1905) началась, часть виднейших мастеров нового искусства встала на её сторону, помещая свои политические карикатуры в леворадикальных журналах типа «Жупел» и «Адская почта»; открытая или потаённая революционная символика проступила и во многих станковых произведениях. Искусство Серебряного века отражало роковые разломы и трагические противоречия реального бытия.
Ранний авангард и его конкуренты
В период между двух революций произошла революция и в рос. искусстве: на авансцену «прекрасной эпохи» (как иронически называют предвоенные десятилетия) выдвинулся авангард. Сложившись в русле модерна, он тем не менее вскоре встал в резкую оппозицию к нему, а тем паче и к другим, более консервативным стилям: все они казались ему слишком косными, обременёнными «грузом веков». Всемерно возросла роль самоценных (или «самовитых») красок, линий, ритмов, последовательно слагающихся в свой транс-физический мир, или мир «четвёртого измерения» (это понятие, выдвинутое философом-мистиком П. Д. Успенским, пользовалось у художников большой популярностью). Развиваясь практически в том же темпе, что и в искусстве Западной Европы, рос. авангард быстро проделал стремительную эволюцию, двигаясь, однако же, путём тоже достаточно «самовитым». Так, фовизм и кубизм, этапные для Запада, здесь сыграли лишь роль пробных, быстро усвоенных уроков, зато особо важное значение обрёл специфически рос. кубофутуризм (синтетически совмещающий разные стадии авангарда), сам же футуризм и неразрывно сопряжённое с ним абстрактное искусство разрослись в масштабные духовные феномены, в ряде случаев опережающие аналогичного рода зап. начинания.
Выставки всё чаще исполняют роль манифестов. Внутренний конфликт модерна и авангарда впервые со всей остротой наметился на выставке «Голубая роза» (1907); её участники (П. В. Кузнецов, А. Т. Матвеев, Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян и др.), чьё творчество составило особое направление в рос. искусстве 20 в., тематически следовали символизму с его поэтикой туманных грёз и фантазий, однако цвета и ритмы их образов уже наглядно высвобождались из сюжетных форм, обретая собственную жизнь. На выставках «Бубнового валета» (с 1910) разграничения выявились ещё резче: художники, составившие ядро объединения (П. П. Кончаловский, А. В. Лентулов, И. И. Машков, Р. Р. Фальк и др.), подчёркивали красками вещность, предметную первооснову своих образов, снимая визуальные различия между живой и неживой природой. Из этой стихии, словно из первоматерии, и народился собственно футуризм, важнейшим рубежом самоопределения которого можно считать тот момент, когда наиболее радикально настроенные художники во главе с М. Ф. Ларионовым вышли из «Бубнового валета», организовав свою собственную выставку «Ослиный хвост» (1912). С образованием же в С.-Петербурге (по инициативе Е. Г. Гуро и М. В. Матюшина) «Союза молодёжи» (1909) сложился и третий центр рос. авангарда.
«Будетляне» (как именовал футуристов В. В. Хлебников) отвергали искусство классического типа как своими произведениями, так и эпатажными, демонстративно-скандальными акциями, которые в свою очередь становились произведениями, мини-спектаклями, предвосхитившими дадаизм. Однако параллельно Д. Д. Бурлюк, Ларионов, Н. С. Гончарова и др. мастера выстраивали свою собственную традицию, программно ориентированную не столько на Запад (чей авангард всё острее осознавался в качестве соперника), сколько на собственные неклассические худож. слои («скифскую» архаику, средневековую иконопись, а также фольклор, включая лубок, расписные вывески и даже заборные рисунки). На базе столь разнородных источников культивировался «примитивный» стиль, используемый в качестве стартовой площадки для беспредметных (или нефигуративных) экспериментов. Одним из таких направлений был лучизм, созданный в 1912–14 Ларионовым; к нему принадлежали также Гончарова, М. В. Ле Дантю, А. В. Шевченко и др. художники.
Впрочем, пути к абстрактному искусству были различны. В. В. Кандинский в кон. 1900-х гг. перешёл к нему впрямую от символизма, рассеивая в своих живописных и графических фантазиях характерные (в т. ч. неорусские) мотивы Серебряного века, принявшие у него вид оккультных знаков. В. Е. Татлин в 1914 выставил первую серию «живописных рельефов» (или «контррельефов»), где превратил картину в трёхмерную вещь, в конструкцию из разнородных материалов. Присущий всем этим работам пафос обретения автономной эстетической вселенной ярче всего выразил К. С. Малевич: его картина «Чёрный квадрат» (1914–15) предстала по сути символическим занавесом, опущенным над старой культурой и устанавливающим новые точки отсчёта космического времени. Знаменитый «Квадрат» послужил эталоном для супрематизма как особого абстрактно-геометрического направления.
На авансцену авангарда вышла и плеяда женщин-художниц, этих «амазонок авангарда» (Гончарова, Л. С. Попова, О. В. Розанова, Н. А. Удальцова, А. А. Экстер). В калейдоскопе манифестов и группировок возникали и «личности-стили», сами по себе составляющие целое направление; таким был П. Н. Филонов, автор мерцающих, словно кристаллы, картин, образующих целые циклы драматических мифов о современности. Особый раздел составили футуристические «книги художников»; внешне они выглядят несравнимо скромнее, чем (часто роскошные) издания мирискусников, однако связь слова и изображения предстаёт в них гораздо более динамичной, активнее затрагивающей не только графику, но и типографский процесс в целом.
Наравне с авангардом продолжали интенсивно развиваться и старшие по возрасту, более или менее традиционалистские направления. Умеренный (на фоне авангарда) модернизм, преимущественно импрессионистического толка, вкупе с традициями передвижничества, предопределил творчество членов образованного ещё в 1903 «Союза русских художников»; типическими для его выставок были национально-романтические жанры и пейзажи (А. Е. Архипова, С. Ю. Жуковского, Ф. А. Малявина, К. Ф. Юона и др.). Народилась новая волна символизма, сочетающегося с неоклассическими тенденциями (наиболее знаменательна в данном плане эпическая по своему духу живопись К. С. Петрова-Водкина). Велись бурные споры о путях развития религиозного искусства: церковный модерн закрепился рядом с прежними, средневеково-иконописными и «академическими», тенденциями, наложив яркий отпечаток и на архитектуру, и на живопись, и на литургическую утварь.
В светской архитектуре 1910-х гг. (в первую очередь при строительстве ряда деловых и промышленных зданий) появился рационалистический вариант модерна, свободный от прихотливой орнаментики и почти лишённый исторических ассоциаций. Параллельно развивались «русский стиль» (который пользовался покровительством двора Николая II) и неоклассические тенденции. Градостроительство же в целом к началу военно-революционного периода представляло собой крайне пёструю, «рационально-хаотическую» панораму: бурная индустриализация и сопряжённые с ней масштабные преобразования больших городских территорий, мощный прогресс урбанистических коммуникаций, попытки воплотить идею «города-сада» – всё это фатально сопрягалось со стихийным ростом полутрущобных районов, даже целых «бедняцких городов», сопровождавших (подобно Батайску рядом с Ростовом-на-Дону или Мотовилихе рядом с Пермью) крупные центры в качестве их теневых спутников.
Диалог национальных культур на рубеже 19–20 веков
Разбуженное романтизмом стремление к этническому самопознанию в искусстве, к образному воплощению своего исторического прошлого и настоящего, равно как и предвидений будущего, охватило огромную империю, совпадая с процессом максимального расширения её границ. По всей стране рос интерес к родному фольклору, неповторимым краскам местного жизненного уклада, к локально-самобытным формам архитектуры и декоративного искусства – и модерн сыграл роль всеобщей матрицы, где вырабатывались эти нац. эстетические языки. Знаменательно, в частности, что первая выставка «Мира искусства» (1898) была русско-финской, и финский модерн, обретая свой международный авторитет, некоторое время сохранял тесную связь с исканиями рус. мастеров.
Искусство Украины эволюционировало параллельно русскому, переходя в архитектуре от романтического историзма (в котором значительную роль играли традиции местного барокко) к синтетическому украинскому модерну. Живопись также прошла путь от передвижничества и импрессионизма (организационно оформленных в Товариществе южнорусских художников, с 1890; Н. К. Пимоненко, К. К. Костанди и др.) к символизму и модерну (живопись Ф. Г. Кричевского, книжная графика Г. И. Нарбута). Роль жанрового лидера на разных этапах и в разных регионах часто исполнял национально-романтический пейзаж с его «почвенной» поэзией, напр. в творчестве Ф. Э. Рущица, работавшего в Польше, Литве и Белоруссии, А. Й. Жмуйдзинавичюса (Литва) или В. Е. Пурвитиса (Латвия). Именно в русле подобного рода пейзажа сложилось искусство литовского художника и музыканта М. К. Чюрлёниса, чьи мистико-фантастические произведения произвели сенсацию в стане рус. символистов. Крупные мастера-модернисты (в частности, скульптор Т. Э. Залькалнс в Латвии, живописцы и графики братья К. Я. и П. Я. Рауд в Эстонии, В. Я. Суреньянц в Армении) вносили важный вклад в культурную память своих народов, укрепляя их национальное, в т. ч. и национально-освободительное, сознание (одним из очагов которого стало, в частности, худож. общество «Молодая Эстония»).
Порой настоящими культурными героями своих этносов становились в эту эпоху не политики или религиозные деятели, а именно художники, совмещавшие разнообразные, эстетические и просветительские, таланты. Таким был (ещё в пору расцвета передвижников) К. Л. Хетагуров в Осетии, а позднее Г. И. Гуркин (Чорос-Гуркин) в Горном Алтае и Г. Ц. Цыбиков в Бурятии. Распространение новых, станковых форм творчества среди тех народов, которым они раньше были неизвестны, немало способствовало этому «просвещению в образах»: знаменателен пример ненецкого живописца и этнографа И. К. Вылко (Тыко Вылко). Повсеместно усиливалась тяга к созданию своих региональных стилей, «северных», «сибирских» и т. д., которые соединяли бы древние традиции с современностью.
Модернизации худож. сознания народов преобладающе мусульманского вероисповедания (в Крыму, Поволжье и Азербайджане) активно способствовала новая газетно-журнальная графика, дерзко нарушавшая принятые в исламском искусстве ограничения на изображение живых существ. Но при этом тиражная графика, если иметь в виду региональную прессу в масштабах всей империи (в т. ч. такие сатирические журналы, как киевский «Шершень», эстонский «Каак», грузинский «Нишаури», азербайджанский «Молла Насреддин»), плотно примыкала к леворадикальным изданиям центра, активно «расшатывая устои». Нац. возрождения постоянно обнаруживали мощный политико-революционный потенциал.
Авангард, производя свою собственную, чисто эстетическую революцию, дополнительно усилил роль регионов, тем более что самые яркие его фигуры зачастую соединяли в своём творчестве родственные культуры. Так, футуристов Бурлюка или Экстер, а отчасти и Татлина можно отнести и к русскому, и к украинскому искусству. С рус. арт-авангардом были тесно связаны А. К. Богомазов (создавший в 1914 в Киеве группу «Кольцо») и В. И. Матвейс из Риги, один из инициаторов петерб. «Союза молодёжи». В Грузии этапной фигурой нового искусства стал «наивный» живописец Н. А. Пиросманашвили (Пиросмани), чьи полные простодушного лиризма картины были незадолго до революции открыты авангардистами, став фактом российского, а затем и мирового значения. Причём многополюсная пестрота авангарда касалась не только частных человеческих судеб, но и образного строя самих произведений: так, вышедшие из круга «Голубой розы» П. В. Кузнецов и М. С. Сарьян лишили вост. мотивы экзотического отчуждения (характерного для прежнего ориентализма), введя их в сферу чисто эстетических красочных откровений (что характерно и для ориенталистики в спектаклях антрепризы С. П. Дягилева).
Особый раздел составило еврейское возрождение; тоже национально-романтическое по своему духу, оно вовлекло в свой круг мастеров (Л. М. Лисицкого, С. Б. Юдовина и др.), стремящихся сохранить худож. традиции иудаизма, а также активнее связать художников-евреев с современным искусством в целом. Этапную роль в этом процессе сыграла Школа рисования и живописи, открытая в 1897 в Витебске Ю. М. Пэном, одним из учеников которого был М. З. Шагал. Живопись и графика последнего, примыкающая к рус. футуризму, в то же время придала новое, поэтически-открытое звучание иудаистской религиозно-фольклорной символике.
Архитектура (благодаря обилию в ней историко-стилистических реминисценций) активно участвовала в этом напряжённом и страстном диалоге культур. Однако в новом зодчестве тех краёв, которые считались как бы «окраинами империи», преобладали (несмотря на подражания вост. зодчеству в постройках «мавританского» или «азиатского» типа) отчётливо «колониальные», лишь внешне связанные с локальной традицией черты. Новые и старые районы в кавказских или среднеазиатских городах разделялись и фактически противостояли друг другу гораздо резче, чем в других регионах империи, причём старина в этом наглядном состязании (будь то старый Тбилиси с его обилием ажурных открытых балконов, исторический центр Баку или, наконец, Самарканд, Бухара и Хива, сохранившие облик средневековых мусульманских городов) всегда выходила победительницей. Целые огромные пласты традиционной культуры (в т. ч. те, что были представлены в среднеазиатском прикладном искусстве с его богатейшими навыками декоративной резьбы по дереву и ганчу, его красочной керамикой и различными школами ковроделия) сохраняли свою первозданную свежесть, но в то же время пребывали в стилистической изоляции, лишь фрагментарно, в малой доле вовлечённые в межнациональный эстетический диалог. Мощно активизированный авангардом, диалог этот лишь начинал развёртываться в полную силу.
Октябрьская революция 1917 и искусство
Новая власть, с усилиями утверждавшаяся в годы Гражданской войны (1917–22), на первых порах физически не способна была разработать целостную систему культурной политики, которая привела бы и к столь же радикальным стилистическим сдвигам. Дело пока ограничивалось лишь отдельными акциями (типа закрытия в 1918 Академии художеств как «царистского» учреждения), в основном же сохранялась инерция прежнего эстетического процесса. Но поскольку государство теперь оказалось как главным собственником, так и главным заказчиком искусства, какие-то решения по нему необходимо было принимать. И первым крупным шагом в этом направлении явился план монументальной пропаганды (1918).
Призванный наглядно закрепить триумф новой власти с помощью памятников и мемориальных досок, план этот был в той же мере созидателен, сколь и разрушителен, поскольку параллельно предписывалось повсеместно убирать памятники «царей и их слуг», заменяя их (чаще всего с использованием прежних постаментов) фигурами или бюстами революционеров, а также тех деятелей истории и культуры, которые считались прогрессивными. Попутно и иные виды искусства сделались пропагандистски-массовыми, сосредоточенными на оформлении революционных праздников и новых средств визуальной политической рекламы, таких, как агитпоезда или агитпароходы (позднее появились и агитсамолёты). Плакат же как таковой нередко (в условиях экономической разрухи) принимал вид рисованных от руки композиций, размножавшихся трафаретным способом и расклеивавшихся в виде специальных «Окон РОСТА» (Российского телеграфного агентства); яркими символами времени стали композиции типа политических комиксов, нарисованные для этих «Окон» В. В. Маяковским и М. М. Черемных. Возникла даже особая разновидность агитационного фарфора (по эскизам С. В. Чехонина и др.), отмеченного тонким декоративным изяществом и предназначенного для дарений и экспорта в качестве «сувениров революции».
Что же касается собственно плана монументальной пропаганды, то уже при воплощении его в жизнь наметились первые признаки антагонизма советской официальной и неофициальной культур. План вызвал к жизни массу скороспелых поделок, к тому же и сработанных из нестойких материалов типа низкокачественного бетона, но иногда создавались действительно образно-значительные и нестандартные монументы; однако именно эти, лучшие работы (П. И. Бромирского, С. Т. Конёнкова или Б. Д. Королёва), провоцируя недовольство партийной элиты своими пластическими и смысловыми «вольностями», либо вообще не устанавливались, либо, будучи установленными, затем уничтожались или, по крайней мере, убирались с глаз подальше. Знаменателен пример «Памятника-башни III Интернационала» В. Е. Татлина (1919–20): модель эту явно невозможно было осуществить не только в силу технической разрухи, но и по причине её таинственного двусмыслия (эта гордо нацеленная в космос спираль в то же время явно напоминает заваливающуюся набок Вавилонскую башню).
Даже переходя на службу революции и искренне признавая её «своей», многие мастера (в т. ч. привыкшие к анархо-поэтической вольнице авангардисты) отнюдь не склонны были отказываться от своей духовной независимости. Хотя авангард и пользовался в период «военного коммунизма» покровительством отдела ИЗО Наркомпроса, получив статус «левого» (т. е. солидарного с большевиками) искусства, фактически он оставался неприручённым. Его эксперименты (прежде всего в творчестве А. М. Родченко) развивались в сторону минималистской геометрической беспредметности, из которой зримо нарождался мир трёхмерных пространственных структур, намечающих переход от футуристической анархии к стилю конструктивно-созидательному, т. е. конструктивизму. Если в прежнем футуризме культ природной стихийности плотно сплетался с культом техники, то теперь выявилось и особое органическое или биоморфное направление авангарда, вдохновляющееся ритмикой чистой природы (М. В. Матюшин, П. В. Митурич, Б. В. Эндер).
Новые худож. общества и кружки возникали по всей стране, разделённой на враждующие лагеря, – от Витебска до Владивостока. М. Л. Бойчук в Киеве, объединив вокруг себя в 1919 молодых художников (И. И. Падалку, В. Ф. Седляра и др.), обновил искусство фрески в композициях, сочетающих средневековые и модернистские приёмы. Важный очаг экспериментального, как бы уже «трансфутуристического» творчества сложился в Витебске, где работали в 1917–22 М. Шагал, К. Малевич, а также В. М. Ермолаева, Л. М. Лисицкий и др. Символизм вкупе с модерном по-прежнему демонстрировал свойственную ему тягу к нац. романтике и видовой всеохватности, воплощаясь в новой политической эмблематике, дизайне денежных знаков и почтовых марок, фиксирующем реальную независимость (как в прибалтийских государствах, Финляндии и Польше) либо лишь поэтическую мечту о ней (как в искусстве Украины).
В целом изобразительный символизм (имея в виду и стиль, и образное содержание в целом) наполнился новым остродраматическим смыслом: аллегорически-сказочные полотна В. М. Васнецова, картины и графика К. С. Петрова-Водкина, огромный живописный и графический цикл «Расея» (1910-е гг.), созданный Б. Д. Григорьевым, по-разному выражали общую тему исторической трагедии. Закрепилось влечение к композициям, ностальгически воспроизводящим мирные природные мотивы, а также старинные пейзажи Сергиева Посада (К. Ф. Юон), Петрограда (А. П. Остроумова-Лебедева) и др. памятных мест.
Период НЭПа
С переходом от военного коммунизма к НЭПу установка на пропаганду мировой революции сменилась приоритетным вниманием к вопросам внутренней политики и соответственно вопросам культуры, которая лишь теперь начала систематически перестраиваться по указам сверху. Правда, при этом программно допускалось, как было специально подчёркнуто в резолюции ЦК ВКП(б) в 1925, «свободное соревнование различных группировок и течений».
Власть и искусство, инициативы сверху и снизу особенно плодотворно взаимодействовали в сфере нового зодчества, зримо обозначившего пути выхода из военной разрухи. Возобновилось капитальное строительство, прежде всего крупных промышленных объектов, а также электростанций (в Кашире, Шатуре и на Волхове), которые воздвигались по плану ГОЭЛРО (по проектам арх. Л. А. Веснина и др.). В зодчестве ярко заявили о себе историко-ретроспективные тенденции («пролетарская классика» И. А. Фомина, неоренессанс И. В. Жолтовского), но подлинным стилем времени предстал конструктивизм – тесно связанный с футуризмом архитектурный авангард, перешедший теперь к конкретной строительной практике. В работах ведущих конструктивистов (таких, как братья Л. А., В. А. и А. А. Веснины, М. Я. Гинзбург, И. А. Голосов, К. С. Мельников) функционально-продуманные, свободные от историко-романтического декора структуры как бы воплощали зримые черты технически и социально совершенного будущего. Их геометричный, ритмически-чёткий композиционный строй, генетически сопряжённый с индустриальным зодчеством и его передовыми технологиями, призван был деятельно формировать образ жизни «нового человека». Возникли особые, подчинённые этой цели типы зданий – такие «очаги нового быта», как рабочие клубы, дома-коммуны и фабрики-кухни. Новаторские проекты нередко опережали своё время, превращаясь в футурологический дизайн (И. И. Леонидов) или комбинаторно-графические архитектурные фантазии (Я. Г. Чернихов); новаторские поиски преобразили и сценографию, где, наряду с модернистcким «живописным театром» (А. Я. Головин, М. В. Добужинский и др.), в творчестве А. А. Веснина, В. А. и Г. А. Стенбергов, Г. Б. Якулова и др. мастеров авангарда утвердились принципы семантически-насыщенной, ритмичной предметной конструкции (или инсталляции).
Этапную роль в футуро-конструктивистском авангарде сыграл ЛЕФ (Левый фронт искусств, основан в 1922), члены которого отрицали привычное станковое творчество («производство картин») как неадекватное современной эпохе, требующей динамичного монтажа реальности, активного «жизнестроительного» внедрения в неё. Эти идеи послужили мощным стимулом для развития архитектуры и сценографии, а также массмедиальных, многотиражных видов творчества: книжно-журнального (синтетически-типографского по своему характеру) оформления и выставочного дизайна, рекламы, фотомонтажного политического плаката (Г. Г. Клуцис) и киноафиши (братья Стенберги). Лефовец А. М. Родченко, а также М. В. Альперт и А. С. Шайхет стали зачинателями искусства фоторепортажа, противопоставив свои остроракурсные снимки пассивной созерцательности пикториализма. Принцип образного «остранения» способствовал появлению внешне идеологически безупречных, но внутренне независимых, проникнутых дадаистским алогизмом произведений (такими были, в частности, лучшие выставочные инсталляции Л. М. Лисицкого). Следуя дизайнерскому импульсу, «левые» мастера создавали рисунки для тканей (эскизы Л. С. Поповой и В. Ф. Степановой), модели одежды, мебели, бытовых предметов, фарфора (Н. М. Суетин).
Представители другой группировки, ОСТа (Общества художников-станковистов, основано в 1925), равно как и родственного ей «Круга художников» (с 1926), напротив, отстаивали (в полемике с лефовцами) принципы изобразительной картинности, однако значительно обновляли эти принципы, внося в свои образы элементы острого, иногда почти сюрреального гротеска, сочетая лирику с фарсом, а порой и откровенным трагизмом. Именно в этом диапазоне развивалось в те годы творчество Д. П. Штеренберга, Ю. И. Пименова, А. А. Лабаса, С. А. Лучишкина, А. Н. Самохвалова, А. Г. Тышлера и др. мастеров ОСТа и «Круга», а также близкого им по духу К. Н. Редько. В живописи и графике остовцев (а также в живописи А. Д. Древина) сложился рос. вариант экспрессионизма. Символизм доказывал свою жизнеспособность в работах членов общества «Маковец» (основано в 1921; В. Н. Чекрыгин, Л. Ф. Жегин, С. М. Романович, Р. А. Флоренская и др.), склонных к мистической лирике. Своеобразным заповедником изысканного модернистского творчества стало искусство книги (В. А. Фаворский, А. И. Кравченко), в т. ч. детской (В. В. Лебедев). В монументальной скульптуре с годами возобладал умеренный, как бы «академизированный» модерн, характерными представителями которого были М. Г. Манизер и С. Д. Меркуров; в пластике же С. Д. Лебедевой, А. Т. Матвеева, В. И. Мухиной, И. Д. Шадра элементы модернизма разнообразно сочетались с неоклассическими или неоромантическими чертами.
Однако самой многочисленной оказалась Ассоциация художников революционной России (АХРР). Ядро её составили художники-традиционалисты (И. И. Бродский, А. М. Герасимов, Б. В. Иогансон и др.), ориентировавшиеся в осн. на творчество передвижников. Сделав узловыми точками своих выставок натуралистичные, «понятные трудящимся» историко-революционные композиции и портреты партийных лидеров, ахрровцы тем самым создали максимально конформистскую и удобную для управления организационную структуру. Впрочем, откровенный официоз, рассчитанный на массовое тиражирование для «красных уголков» по всей стране, соседствовал здесь с остротой историко-бытовых наблюдений (характерной, в частности, для картин А. Е. Архипова, Ф. С. Богородского и М. Б. Грекова).
Напряжённая конкуренция традиции и авангарда развёртывалась и в советских республиках, тем более что в некоторых из них образовывались родственные АХРРу объединения или его непосредственные филиалы. Значительная часть украинских «левых» вошла в состав АРМУ (Ассоциация революционного искусства Украины, основана в 1925), где ведущую роль играли Бойчук и его последователи. В скульптуре И. П. Кавалеридзе ярко проявились черты кубофутуризма, а в близких по духу к ЛЕФу инсталляциях и проектах В. Д. Ермилова – элементы дадаистски-концептуальной поэтики. Лишь в советский период начал складываться среднеазиатский модернизм, представленный в 1920-х гг. в первую очередь творчеством живописцев А. Н. Волкова и А. В. Николаева (Уста-Мумина) в Узбекистане. Поиски особой региональной стилистики активно велись целыми обществами («Новая Сибирь» в Новосибирске, с 1926; «Мастера нового Востока» в Ташкенте, с 1927, и др.) и отдельными мастерами, такими, как П. С. Субботин-Пермяк у коми или Ц. С. Сампилов у бурят. Местный фольклор зачастую эффективно преображался, воспроизводя не только свои ритуальные истоки, но и окружающий мир (как в картинах Е. В. Честнякова, уединившегося в родном костромском селе Шаблово).
Пёстрое многообразие культуры НЭПа накладывалось на весьма мрачный исторический фон: вандализм и систематические изъятия ритуальных ценностей нанесли огромный ущерб религиозному искусству всех конфессий. Целые пласты живой многоукладной культуры подвергались насильственному отторжению.
Внедрение советской тематики в декоративное творчество, равно как и в массовую культуру в целом, проходило не всегда гладко: часто в результате нарождался почти пародийный китч (с тракторами и комбайнами в виде узоров на платьях), в ряде же случаев возникали достаточно самобытные новые жанры (типа «советского лубка») или причудливо-живописные сочетания старого с новым (таковы, в частности, иконописные по стилистике современные сюжеты на многих изделиях Палеха – работы И. И. Голикова и др. мастеров).
1930-е годы
Культ личности И. В. Сталина, преломившись в культуре 1930-х гг., обрёл воистину имперское величие. К тому же искусству в целом, прежде (в ленинский период) находившемуся где-то на окраинах большой политики, теперь было придано общегосударственное значение: прославляя историко-революционные свершения прошлого и трудовой энтузиазм настоящего, оно должно было деятельно поддерживать этот энтузиазм, обеспечивая «лучшее самочувствие» населения (из речи Л. М. Кагановича на заседании, посвящённом открытию Моск. метрополитена, 1935). Его следовало наполнить триумфальным содержанием, последовательно изгнав всё двусмысленное, пессимистическое, «декадентское», поэтому прежний идейный плюрализм и пёстрое разностилье представали отныне совершенно недопустимыми.
В 1932, согласно специальному постановлению ЦК ВКП(б), все худож. группировки были упразднены, и началось формирование единых всероссийских творческих союзов с отделениями на местах (в 1932 создан Союз архитекторов, в 1957 завершилась организация Союза художников). В 1934 нашла итоговое выражение формула социалистического реализма, который, отражая «жизнь в её революционном развитии», призван был стать всеобщим творческим кредо. По сути это был не стиль и даже не метод, а чёткая партийная программа, способная извлечь политическую выгоду из любого стиля, хотя реализм передвижнически-ахрровского толка казался (в силу своей «демократической» доходчивости) наиболее приемлемым. В целом же (если говорить об исторических прототипах) соцреализм оказался ближе всего классицизму 18 в. с его стремлением к монументальному гос. единообразию. Недаром в 1933 начался и процесс возрождения классицистской в истоках своих Академии художеств (сперва в качестве худож. вуза, а затем, с 1947, как идейно-методического центра). В 1934 была основана также и Академия архитектуры.
Что касается архитектуры, то здесь решительный поворот к классике наглядно обозначился в знаменитом проекте Б. М. Иофана (1932–33), который получил первую премию на конкурсе, предварившем строительство Дворца Советов (в итоге так и не осуществлённого). В иофановском проекте, как и во многих других постройках переходного периода (в т. ч. в работах А. В. Щусева, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейха и др. зодчих), ещё ощущались некоторые черты архитектурного авангарда (что сближает их с компромиссным, авангардно-неоклассическим стилем ар деко на Западе). Вскоре же окончательно возобладал дух парадной торжественности, воплощённой в подчёркнуто традиционалистских, классически-ордерных формах, оснащённых богатым скульптурным, а в интерьерах и живописным убранством (заимствованная из символизма идея тотального синтеза искусств обрела теперь новую популярность).
Здания в духе «сталинского классицизма» среди старой городской застройки неизменно выделяются своей декорационной фасадностью, маскирующей урбанистическую реальность. Наиболее совершенные архитектурные ансамбли были созданы при строительстве первых очередей Моск. метрополитена (1935–38, арх. А. Н. Душкин и др.), Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (с 1939, архитекторы В. К. Олтаржевский и др.; ныне Всероссийский выставочный центр), а также комплекса канала имени Москвы (с 1932, А. М. Рухлядев и др.). Величавые «здания-монументы» (преимущественно административно-общественного назначения) украсили городские центры, радикально обновив их облик; среди наиболее впечатляющих градостроительных примеров следует назвать центры Еревана (с 1926, А. И. Таманян и др.) и Минска (с 1930, И. Г. Лангбард). Важный компонент тогдашнего синтеза искусств составили региональные материалы, формы и орнаменты (типа розоватого армянского туфа, узорной резьбы азербайджанских и среднеазиатских построек и т. д.); в настоящий парад национальных декоративных стилистик превратился ансамбль ВСХВ. Однако параллельно новому строительству продолжал развёртываться процесс официального вандализма, приведшего (под предлогом «упорядочения городской застройки») к утрате огромного количества памятников старины, в т. ч. и ряда важнейших доминант исторических городских пейзажей (таких, в частности, как тверской Спасо-Преображенский собор, с 13 в.; почти все храмы Нижегородского кремля; Сухарева башня в Москве, 1692–1701, и др.).
Важнейшие видовые точки акцентировались скульптурными памятниками в духе плана монументальной пропаганды, рассчитанными на то, чтобы стоять века. Самые значительные из них (напр., исполненные по эскизам С. Д. Меркурова фигуры И. В. Сталина) излучали грозную силу, живо напоминающую о сверхчеловечески-грандиозном искусстве древневосточных деспотий. В их образном строе доминировал романтически-приподнятый символизм, нашедший наиболее пафосное и динамичное воплощение в группе «Рабочий и колхозница», первоначально украшавшей советский павильон на Всемирной выставке 1937 в Париже (скульптор В. И. Мухина).
В качестве главного типа официальной живописи утвердилась тематическая картина, демонстрирующая героические свершения недавнего революционного прошлого или индустриально-колхозной современности. Особую важность обрели спортивные и военные сюжеты, свидетельствующие о возрастающей силе и боеготовности государства. Иногда (в частности, у бывшего остовца А. А. Дейнеки или в живописи А. Н. Самохвалова) эти образы достигали впечатляющей поэтической цельности, но всё же ещё чаще в них проступали острые контрасты между тем, что требовалось свыше, и тем, что создавалось реально. Так, М. В. Нестеров и П. Д. Корин прославляли в своих «героических портретах» прежде всего соотечественников, сумевших выстоять и сохранить свой творческий потенциал буквально вопреки всему. Пейзаж, лишь только предоставлялась возможность, охотно сбрасывал с себя колхозно-индустриальные приметы, переходя к тихому созерцанию первозданно-природных или архаически-провинциальных ландшафтов (таковы, в частности, тарусские пейзажи Н. П. Крымова). Чем строже оказывался цензурно-выставочный отбор, тем чётче вырисовывались расхождения официального и неофициального сознаний. Специфической зоной этого разграничения предстало «тихое искусство», изображавшее не всякого рода «триумфы», а сценки семейной жизни, близких автору людей, уголки природы либо романтические фантазии. Именно в этом русле были созданы многие лучшие произведения того периода (в т. ч. картины М. К. Соколова, А. Ф. Софроновой, акварели и графика Л. А. Бруни, П. В. Митурича, Н. А. Тырсы и др.). Критические разносы нанесли большой урон искусству книги, однако и ему удавалось сохранять свой высокий артистизм, особенно в оформлении детских изданий (Е. И. Чарушин и др.).
Параллельно нарастал слой работ, которые вообще лишались всякого шанса быть показанными публике. В круг этих вещей порой входили и совсем неавангардные по своему духу, но «несозвучные эпохе» произведения (напр., остродраматические портреты священников, прихожан, монахов и монахинь, составившие цикл «Русь уходящая», или «Реквием», написанный П. Д. Кориным в 1929–35). Однако авангардные поиски (в частности, творчество П. Н. Филонова и его школы) натыкались на подобные запреты, в силу официальной нетерпимости к «формализму» с его смысловыми туманностями и парадоксами, гораздо чаще. Хотя отдельные авангардистские импульсы и вырывались на поверхность, к публике (напр., в оформлении парадов и демонстраций), теперь, во всецело служебном статусе, они неизбежно утрачивали прежнее качество. В искусстве фотомонтажа и фоторепортажа аналогичным образом угасала воля к эксперименту, к остранённой иронии, уступая место откровенно лакировочным тенденциям.
Худож. развитие областей и республик в свою очередь было отмечено резкими противоречиями. С одной стороны, расширяющаяся сеть местных отделений творческих союзов, новых училищ, практика постоянных творческих командировок и невиданно плотные выставочные графики (благодаря которым художники из центра познавали Кавказ, Среднюю Азию, Урал и Сибирь, а мастера из республик и областей получали возможность обрести весомый авторитет в центре) – всё это призвано было обеспечить повсеместный эстетический расцвет. Но, с другой стороны, «национальная форма», которая обязана была во что бы то ни стало выражать «социалистическое содержание», т. е. ту же программу соцреализма, выхолащивалась в чисто внешнюю декорацию, отъединённую от своих собственных реально-исторических корней («реакционных» в силу их «религиозных пережитков» или «местного национализма»).
В этих условиях повсюду получал огромное значение авторитет крупных мастеров, начинавших работать ещё до революции; именно благодаря им процесс нац. возрождений всё же продолжался. Знаковыми в этом смысле стали картины М. С. Сарьяна в Армении, Е. Д. Ахвледиани, Л. Гудиашвили и Д. Н. Какабадзе в Грузии. Яркий вклад в новую живопись Узбекистана внесли Н. Г. Карахан и У. Т. Тансыкбаев. Порой колорит среднеазиатского искусства действенно обогащался: в нём сочетались европейские и местные, средневековые и фольклорные элементы (как в живописи и графике А. Кастеева в Казахстане или Б. Ю. Нурали в Туркменистане; последний внёс большой вклад также в ковроделие). В этих регионах возникал свой неофициальный слой искусства, шла ли речь о мастерах вполне благополучных (в произведениях которых, однако, возрастало иносказательное, скрыто-символическое начало) либо о тех, кто (подобно А. А. Бажбеуку-Меликяну в Грузии) вынужден был писать картины по сути лишь для себя и близких или (как С. И. Калмыков в Казахстане) влачить жизнь «художника-дервиша».
В декоративно-прикладных искусствах, как и в станковом творчестве, насаждался пресловутый тематизм (с колхозницей и пограничником как главными героями мелкой фаянсовой пластики и самолётно-парашютными мотивами в орнаментах), однако и тут создавалась масса поэтичных авторских вещей (таковы, в частности, ироничные керамические фигурки и сценки И. Г. Фрих-Хара, романтико-исторические по духу образцы великоустюжской черни, исполненные Е. П. Шильниковским, эпико-повествовательные изделия Вуквола и Онно, мастеров чукотской резьбы по кости). Целая волна «наивно»-сказочного фольклора народилась в искусстве Украины, где Т. А. Пата, М. А. Примаченко, А. Ф. Собачко-Шостак и др. художницы писали красочные станковые композиции на базе давнего навыка росписей крестьянских хат. Е. В. Белокур на Украине (а на Севере – ненец К. Л. Панков) успешно переносили фольклорные навыки в станковую живопись. Выдающееся место в искусстве почти всех советских республик занимала сценография, где вновь возобладал принцип живописного оформления, иногда включавшего в себя опосредованные черты конструктивизма (Н. П. Акимов, П. В. Вильямс, В. В. Дмитриев, И. М. Рабинович, В. Ф. Рындин и др.). Что же касается дизайна в узком смысле, дизайна технической продукции, то экспериментальная фаза сменилась здесь в 1930-х гг. более строгим индустриальным практицизмом; в его рамках возник целый ряд новаторских разработок, осваивавших принцип «обтекаемой формы».
Массовые репрессии этого десятилетия затронули и худож. мир. Жертвами «большого террора» стали многие выдающиеся мастера (в т. ч. Г. И. Гуркин, А. Д. Древин, Г. Г. Клуцис, М. Л. Бойчук и ряд его учеников). Возникла даже особая область «гулаг-арта», как его назвали впоследствии (искусство, создававшееся в лагерях или местах ссылки), равно как и «гулаг-архитектуры» (проекты и постройки репрессированных зодчих, оставившие заметный след в тогдашнем промышленном и жилом строительстве, в особенности на Севере, в Казахстане и Сибири). Монументальный мир «сталинского классицизма» был полон непримиримых и жестоких контрастов.
Художники эмиграции
Культура рус. зарубежья сложилась в постреволюционный период в качестве особой историко-худож. сферы, что было вызвано в первую очередь не столько эстетическими, сколько социальными причинами. Если раньше пребывание художников за рубежом диктовалось прежде всего педагогически-познавательными соображениями (в эпоху романтизма главным центром притяжения служила Италия, а позднее Париж), то после 1917 многие мастера оставались за границей (выехав из России ещё до войны) либо оказывались там в качестве беженцев или невозвращенцев по политическим причинам. При этом общественные симпатии и антипатии эмигрантов были весьма разнородны: одни из них заняли непримиримые позиции по отношению к советской власти, другие же, напротив, охотно сотрудничали с её официальными органами и посылали свои работы на рос. выставки.
Чрезвычайным разнообразием отличался и творческий спектр этих художников. Наряду с мастерами более традиционного, романтико-реалистического или позднеимпрессионистического толка (такими, как К. А. Коровин, Ф. А. Малявин или Н. И. Фешин) особо видное место тут заняли представители модерна, бывшие мирискусники (Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих и др.), благодаря Русским сезонам Дягилева и других антрепризам внёсшие выдающийся вклад в мировую сценографию. Их театральные и станковые работы (а также произведения К. А. Сомова, Б. И. Анисфельда, Ю. П. Анненкова, Б. Д. Григорьева, Д. С. Стеллецкого, С. Ю. Судейкина) действенно обогащали поэтику символизма, часто принимая вид полуфантастических гротесков и грёз. Утвердилось и зародившееся ещё в предреволюционной России неоклассическое направление (З. Е. Серебрякова, В. И. Шухаев, А. Е. Яковлев). За рубежом активно работали многие российские и украинские авангардисты (в т. ч. Д. Д. Бурлюк, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, А. А. Экстер и др.), некоторые из них (в первую очередь В. В. Кандинский и Шагал) достигли в эмигрантский период вершин своего международного авторитета.
Особый, чрезвычайно существенный социально-худож. пласт составили те выходцы из разных регионов Российской империи, которые лишь начинали там свой творческий путь либо целиком творчески сформировались за рубежом. Скульптура А. П. Архипенко, Ж. Липшица, братьев Певзнер (Н. А. Габо и А. А. Певзнера) и О. А. Цадкина сыграла эпохальную роль в эволюции авангардной пластики 20 в. А. Г. Явленский и Х. Сутин внесли новые импульсы в живопись экспрессионизма, И. М. Зданевич (Ильязд) и С. И. Шаршун – в стилистику дадаизма, а франц. неоромантизм 1930-х гг. вообще был создан в осн. уроженцами России: живописцами братьями Берман (Е. Г. Берманом и Леонидом – псевдоним Л. Г. Бермана) и П. Ф. Челищевым. Позднее, уже в 1940-х гг., Н. де Сталь стал одним из основоположников ташизма (франц. версии абстрактного искусства). Порой создавались новые виды творчества (как в случае с В. Д. Барановым-Россине, продолжившим во Франции свои цветомузыкальные опыты, С. Е. Делоне, перенёсшей здесь принципы ритмически-цветовой абстракции в дизайн, или Б. В. Анрепом, возродившим в Великобритании искусство мозаики), закладывались основы местных школ нового искусства (во многом именно такую роль сыграла живопись Л. Сегала в Бразилии и Д. И. Васильева в Австралии).
Значительный след выходцы из России (Н. В. Васильев, А. И. Клейн, C. И. Чермаев и др.) оставили и в зодчестве Западной Европы и США, способствуя воплощению в нём функционально-рационалистических идей. Параллельно этому бытовали ностальгические неорусские стилизации (Н. И. Исцеленов и др.), особо характерные для церковных зданий и мемориальной пластики. Сложился ряд центров традиционной иконописи (общество «Икона» в Париже, старообрядческая мастерская Г. Е. Фролова в Латвии и др.). Иногда художники-эмигранты возвращались на родину, подобно И. Я. Билибину, С. Т. Конёнкову и С. Д. Эрьзя (приобщившему к модернистской традиции искусство Мордовии). Но это было скорее исключением: в целом проводимая в СССР политика «железного занавеса» (из-за которой информация о современной зарубежной культуре замалчивалась или идеологически искажалась) препятствовала развитию полноценных международных творческих связей, в т. ч. и с соотечественниками.
Великая Отечественная война и первые послевоенные годы
Война наложила отпечаток на все искусства: в большинстве своём они ушли в тень, закономерно уступив место наглядной агитации. Первостепенное значение обрёл плакат, возродилась и традиция «Окон РОСТА» (в Москве это были «Окна ТАСС», в Ленинграде – листы «Боевого карандаша»). Особую известность получили остроэкспрессивные графические плакаты Кукрыниксов (творческий коллектив М. В. Куприянова, П. Н. Крылова и Н. А. Соколова) и И. М. Тоидзе. В целом в тиражной графике, равно как и на выставках военных лет, ещё очевиднее обозначилась национально-романтическая линия, проявившаяся уже в кон. 1930-х гг.: всё более заметное место в потоке образов занимали историко-патриотические мотивы, в равной мере характерные для тематической картины, портрета, пейзажа и сценографии. Правда, цензурный прессинг по-прежнему постоянно давал о себе знать, приводя к последовательному затушёвыванию реальных ужасов войны, которую надлежало изображать лишь как непрерывный цикл героических подвигов.
Несмотря на это, лучшим мастерам (таким, как А. А. Дейнека, А. А. Пластов или Л. Гудиашвили с его огромной серией графических гротесков в духе Ф. Гойи) удавалось передавать в своих работах общечеловеческий трагизм военных лет. Большой вклад в эту образную хронику внесли художники ленинградской блокады (в т. ч. С. Б. Юдовин, Л. С. Хижинский, А. П. Остроумова-Лебедева и П. А. Шиллинговский). Благодаря эвакуации многих мастеров в Среднюю Азию укрепились творческие контакты с местным искусством, активно развивавшимся и в условиях военного времени.
С окончанием войны на первый план выдвинулись задачи восстановления городов и сёл. По ходу этих работ, осуществлявшихся с огромным размахом (под руководством К. С. Алабяна, А. В. Власова, Г. П. Гольца, А. В. Щусева и др. зодчих), сложился «стиль триумф», проникнутый победным патриотизмом. Классицистические, ренессансные и барочные формы обрели здесь особую, порой многоэтажно-приподнятую пышность, эффектно видоизменяя не только отдельные кварталы, но и силуэты городов в целом. Самыми масштабными урбанистическими комплексами этого времени предстали столичные высотные дома, в т. ч. наиболее грандиозный из них – центральный корпус Московского гос. университета (1949–53, арх. Л. В. Руднев и др.). Деятельность П. Д. Барановского и многих др. реставраторов обеспечила новую жизнь памятников старины, которым был нанесён тяжёлый урон во время военных действий (в ходе боёв разрушены были и многие памятники мирового значения, в т. ч. новгородская церковь Спаса на Нередице и дворцово-парковые ансамбли под Ленинградом).
Однако триумфальность стиля была плотно сопряжена не только с радостью победы, но и всё с тем же культом личности. Именно теперь окончательно определился (в качестве главного жанра) тип картины-панегирика, где народные массы или индустриально преображённая природа обрамляли вождя в виде волнующегося живого ореола, причём создавались подобные композиции обычно бригадным методом, сводящим на нет личностное начало. Усреднённо-безличный вид фатально обретали самые выигрышные (в идейном плане) произведения. Своеобразными же внеидеологическими отдушинами служили работы, привлекавшие своей непритязательной сюжетной простотой, в т. ч. лиричные пейзажи (Г. Г. Нисский, Н. М. Ромадин, С. В. Герасимов) и простодушные бытовые сценки (А. И. Лактионов, Ф. П. Решетников).
Вовлекаясь в орбиту «стиля триумф», монументально преображалось и прикладное искусство: главная ставка делалась на производство больших, сугубо музейных вещей типа огромных керамических и стеклянных ваз, многометровых ковров, тяжёлых кружевных скатертей, роскошного по отделке именного оружия (вещей, многие из которых – реально, но ещё чаще в идеале – создавались как подарки вождю). Пышная живописность всего этого декора, активно использующего нац. орнаменты (и проникшего даже в технический дизайн, разбавив его прежнюю строгость), пребывала, однако, в элитарной изоляции от массового быта. Несколько тяжеловесный, «подарочный» характер обрело и тогдашнее искусство книги; впрочем, перейдя «от типографики к графике», т. е. делая главный акцент на больших иллюстративных по сути станково-графических циклах, оно достигло в этой сфере заметных успехов. На фоне работ, хотя и мастеровитых, но подчёркнуто-традиционалистских (иллюстрации Е. А. Кибрика, Д. А. Шмаринова и др.), по-прежнему выделялось модернистское в своих истоках книжное искусство В. А. Фаворского.
К кон. 1940-х гг. идеологический нажим на искусство усилился, борьба с «формализмом» (как именовались тогда любые склонные к вольному эксперименту течения) обрела ещё более яростный оттенок. Многие мастера старшего поколения (такие, как С. М. Романович, В. Е. Татлин, А. Г. Тышлер, Р. Р. Фальк, Д. П. Штеренберг) вынуждены были создавать свои лучшие произведения тех лет приватно, не для выставок, однако их работы служили живым примером для молодёжи, способствуя образованию частных, почти семейных по своему характеру творческих кружков.
В те же годы принципы соцреализма с его всеобщей стилистической унификацией ударными темпами внедрялись в культуры Зап. Украины и прибалтийских стран. Но и в данном случае реальный ход культуры определяли не кампании и указы, а наиболее авторитетные художники старшего поколения (такие, как график Е. Л. Кульчицкая на Западной Украине, скульптор П. С. Римша в Литве, скульптор А. Г. Старкопф и график Г. Г. Рейндорф в Эстонии), т. е. те мастера, которые обеспечивали преемственность эстетических поисков, берущих своё начало ещё в дореволюционном модерне.
Период «оттепели»
Проявившиеся после смерти И. В. Сталина приметы политической либерализации (или «оттепели») внесли в культуру массу свежих импульсов, хотя и имели крайне непоследовательный, зигзагообразный характер. Архитектура стала самым крупным зеркалом этих противоречий. Кампания «борьбы с украшательством», с показным декоративизмом, развернувшаяся в советском зодчестве с кон. 1954 (по личной инициативе Н. С. Хрущёва), была воспринята обществом как наглядный симптом демократизации, вскоре ставшей действительно общенародной. Перевод строительства на промышленную базу, интенсивное внедрение принципов блочного и панельного домостроения позволили действенно обновить жилой фонд, резко улучшив быт миллионов людей. Ударные темпы и грандиозные масштабы подобного архитектурно-индустриального решения наболевших социальных вопросов не имели аналогов в мировой истории. По всей стране возводились многоквартальные «черёмушки» (как было принято называть новые жилмассивы по аналогии с Новыми Черёмушками в Москве). Однако при этом практически полностью игнорировалось образное начало архитектуры, повсюду насаждался унылый стандарт, лишённый местного колорита.
Впрочем, уже к кон. 1950-х гг. дали о себе знать и тенденции противоположного свойства. В изящной планировке некоторых микрорайонов, а также в лишённом прежней помпезности, порой даже элегантном оформлении отдельных общественных зданий, гостиниц, кафе проступили зримые черты «современного стиля», главным провозвестником которого выступила Прибалтика с её прочными традициями предметно-бытового дизайна, сочетающего зап. функционализм с элементами местного фольклора. Диапазон подобных творческих инициатив простирался от оформления прибалтийских кафе и искусства литовских витражей до планировки жилого комплекса Лаздинай в Вильнюсе (1967–73, арх. В. А. Чеканаускас) и построек эстонского зодчего Т. Э. Рейна, создававшихся в русле неоконструктивизма. Однако и в др. регионах архитектура действенно модернизировалась, причём уже не только чисто технически, как в начале «оттепели», но и стилистически. Благодаря зданиям, возведённым по проектам В. С. Кубасова, А. Д. Меерсона, И. А. Покровского, М. В. Посохина и др., архитектурные направления 20 в. укоренялись и на рос. почве, причём в той же последовательности, что и на Западе: умеренный рационализм сменялся бруталистскими структурами (с их нарочито-грубоватой пластикой объёмов), а затем элементами неоклассики и постмодернизма. Передовые архитектурные поиски затронули и среднеазиатские республики, в т. ч. Туркмению (где в те годы работал зодчий А. Р. Ахмедов). Но застройка в целом оставалась безлично-однообразной или, напротив (в случае с крупными общественными зданиями), вновь удручающей своей расточительной помпезностью, пусть даже и несколько осовремененной; к тому же она зачастую грубо искажала или впрямую разрушала исторически ценную локальную среду. Правда, многое удалось отстоять в процессе интенсивных реставрационных работ; иногда даже воссоздавались целые историко-пейзажные комплексы (Суздаль, Псковский кремль или старые кварталы Тбилиси). В 1980-х гг. постмодернистские тенденции иронично отразились в чисто концептуальной «бумажной архитектуре» (А. C. Бродский и И. В. Уткин, М. А. Филиппов и др.).
В монументальной скульптуре на фоне «штучных» историко-революционных памятников (прежде всего бесчисленных фигур В. И. Ленина), которые, выигрывая несметным количеством, крайне деградировали в качественном отношении, выделялись большие, порой гигантские мемориальные комплексы, воздвигнутые на месте боёв и массовых захоронений периода Вел. Отеч. войны. Известнейшим произведением такого рода стал ансамбль на Мамаевом кургане в Волгограде, созданный под руководством Е. В. Вучетича (1963– 1967). Широкую известность в этот период получили также памятники работы М. К. Аникушина и Л. Е. Кербеля.
Поиски новой искренности в искусстве предопределили образный строй «деревенской живописи» (которую называют так по аналогии с «деревенской прозой» в литературе), в осн. жанрово-бытовой и пейзажной. Признанным лидером этого направления был А. А. Пластов, его тематическую линию продолжили, в частности, Ю. П. Кугач, В. Ф. Стожаров и братья С. П. и А. П. Ткачёвы.
2-я половина 20 века
На фоне созерцательного лиризма подобных провинциально-сельских образов (родственных искусству Союза русских художников) гораздо более энергичную позицию заняли мастера «сурового стиля», заявившие о себе на рубеже 1950–60-х гг. (Н. И. Андронов, Д. Д. Жилинский, В. И. Иванов, Г. М. Коржев, П. Ф. Никонов, П. П. Оссовский, В. Е. Попков, Т. Т. Салахов и др.). Хотя в сюжетном отношении некоторые из этих художников примыкали к «деревенской живописи», в целом они тяготели к остросовременной, подчёркнуто проблемной и драматичной образности, стремясь преодолеть стереотипы тематической картины и обращаясь для этого к модернистским приёмам (в первую очередь к экспрессионизму ОСТовского толка). Народилась особого рода «тихая графика» (И. В. Голицын, Г. Ф. Захаров, А. А. Ушин), оппозиционная по отношению к пресловутому «тематизму». Черты умеренно модернистского «сурового стиля» с годами проникли и в скульптуру, в т. ч. и монументальную (О. К. Комов, Д. Ю. Митлянский и др.). В полемическом противостоянии канонам соцреализма – но также и принципам авангарда – сложилось неорусское направление в живописи и графике, основоположником которого стал И. С. Глазунов.
Во многом благодаря «суровому стилю» Союз художников СССР начал разъединяться на внутренние кланы «консерваторов» и «новаторов»; последние обозначились в крупнейших городах в виде «левого МОСХа» (Моск. отделения Союза художников СССР), «левого ЛОСХа» в Ленинграде и т. д. Унифицированная, цензурно-отлаженная система соцреализма обнаруживала явную нежизнеспособность, причём в нестанковых видах творчества процесс отторжения от догм шёл гораздо быстрее. Стилистически реформировался книжный дизайн, в первую очередь дизайн детской книги («современные лубки» Т. А. Мавриной, неосюрреализм В. В. Пивоварова). В сценографии плодотворная эволюция принципов модернистского «живописного театра» (С. Б. Вирсаладзе, С. М. Юнович, А. П. Васильев, В. Я. Левенталь) сочеталась с позднеавангардистскими поисками (Д. Л. Боровский, Б. А. Мессерер). Расширению зоны плюрализма активно способствовало и монументально-декоративное творчество (витражи, мозаики, гобелены).
Параллельно выходило к зрителю неофициальное (или, как его ещё называли, «другое») искусство; его малые кружки сменялись творческими группировками и целыми домашними училищами, действующими под началом крупных авангардистов (большая школа-студия Э. М. Белютина близ Москвы и маленькая, но сплочённая ленинградская школа, известная как «группа В. В. Стерлигова»). С открытием (1976) специального выставочного зала при Моск. горкоме графиков и появлением региональных культурных центров, поддерживающих альтернативное творчество (таких, как Дом культуры новосибирского Академгородка, студия цветомузыки при конструкторском бюро «Прометей» в Казани и др.), худож. андерграунд частично преодолел свой подпольный статус, зримо демонстрируя не только чуткие отклики на зарубежные течения, но в ряде случаев и яркую самобытность.
Рос. скульптура вернула себе право на формотворческий эксперимент в экспрессивных образах Э. И. Неизвестного и В. А. Сидура, проникнутых трагическими воспоминаниями о войне. В работах художников лианозовского кружка (О. Я. Рабин и др.), а также картинах О. Н. Целкова возобладал сюрреа-листический гротеск, в живописи же и графике Б. П. Свешникова и М. М. Шемякина (с его серией «Карнавалов Санкт-Петербурга») – своеобразно переосмысленные традиции символизма Серебряного века. Сложился особый жанр «метафизического натюрморта» (В. Г. Вейсберг, Д. М. Краснопевцев, И. Л. Табенкин), бытовавшего как в неофициальной, так и «левомосховской» среде. Свой, модернистский вариант неорусского стиля разработали В. Я. Ситников и А. В. Харитонов. Ряд мастеров свободно варьировал предметные и беспредметные мотивы, переходя к мистико-символистской (М. М. Шварцман), геометричной (Э. А. Штейнберг) либо более импульсивной, «ташистской» (А. Т. Зверев, В. Н. Немухин) живописи и графике, абстрактной или полуабстрактной. Члены группы «Движение» (сформировавшейся в 1962 под руководством Л. В. Нусберга) вдохновлялись идеями конструктивизма и кинетического искусства. Двигаясь этим курсом, рос. авангард сомкнулся с популярным в те годы экспериментальным дизайном, сохранив всё же (в работах В. Ф. Колейчука и Ф. Инфанте) статус зрелищно-концептуального, а не прикладного творчества. В картинах, посвящённых миру обыденных, даже подчёркнуто вульгарных вещей (у М. А. Рогинского и Е. Л. Рухина), наметились первые рубежи рос. поп-арта (наиболее раннего из постмодернистских течений), закреплённые соц-артом, который был создан (в осн. В. А. Комаром и А. Д. Меламидом, также Э. В. Булатовым) в виде пародии на соцреализм и современную массовую культуру в целом. Работы И. И. Кабакова органично вписались в круг концептуального искусства, являющего зрителю не итоговые произведения, а знаковые приметы незавершённого, демонстративно «открытого» творческого процесса. В легальных и полулегальных, в т. ч. квартирных, выставках «другое» искусство преодолевало свой чисто станковый статус, активно обращаясь к методике пространственных установок-инсталляций, а также хеппенингов и перформансов (которые первоначально, как в случае с группой «Коллективные действия» под началом А. В. Монастырского, чаще всего проводились на лоне природы). Впрочем, цензурные и социальные преграды постоянно давали о себе знать, и поэтому многие художники эмигрировали.
В 1970-х гг. «суровый стиль» в значительной мере переродился в т. н. карнавализм, направление иронически-игровое, открыто трансформирующее былые официозные стереотипы в авангардном духе. В число лидеров нового течения вошёл целый ряд художниц, обеспечивших специфически-феминистский его раздел (скульптура А. Г. Пологовой, живопись Т. Г. Назаренко, Н. И. Нестеровой). Охватив практически все виды изобразительного и декоративного творчества, в т. ч. скульптуру (Л. М. Баранов, Л. Л. Берлин, А. Н. Бурганов, А. И. Рукавишников), «карнавальный стиль» ознаменовал быстрое размывание границ между официально-выставочной культурой и андерграундом, тем самым представ как бы худож. перестройкой, которая началась ещё до перестройки политической. Попутно вошёл в моду и фотореализм (или гиперреализм), синтетически соединяющий приёмы живописи (или графики) и фотографии. В фотоискусстве же как таковом мощно развивался свой собственный андерграунд, где доминировало напоминающее соц-арт, резко оппозиционное по отношению к советским массмедиальным мифам направление.
Аналогичные контрасты предопределяли и культуру др. республик. Провозвестниками стилистических новшеств здесь, как и в России, нередко выступали мастера старшего поколения, в т. ч. живописцы Т. Н. Яблонская на Украине, М. Г. Греку в Молдавии, А. М. Гудайтис в Литве, С. Б. Бахлулзаде в Азербайджане, М. С. Сарьян (а также живописец и скульптор Е. С. Кочар) в Армении, С. А. Чуйков в Киргизии. Классик эстонского авангарда Ю. И. Соостер был тесно связан с моск. концептуализмом. Произведения новой волны в искусстве республик, напр. картины Д. О. Скулме (Латвия), графика С. А. Красаускаса (Литва), картины М. К. Аветисяна (Армения) или Т. Ф. Нариманбекова (Азербайджан), вызывали значительный резонанс в центре, воспринимаясь в качестве вполне «своих». В русле «карнавального стиля» сформировалось искусство живописца и монументалиста З. К. Церетели. Рос. регионы действенно преодолевали свой культурный провинциализм: в них заявили о себе, в частности, такие крупные творческие личности, как скульптор Л. Ф. Ланкинен (Карелия), живописцы И. К. Зарипов (Татария) и А. Ф. Лутфуллин (Башкирия). Причём теперь активное взаимодействие нац. школ уже не скрадывало реальных культурно-политических противоречий (как в период «сталинского классицизма»), но образно воплощало, порой даже заостряло их, складываясь в живописную, но достаточно драматичную панораму.
Стилистическое брожение охватило и мир декоративно-прикладного искусства: его тоже пронизывала воля к свободному формотворчеству, выразившаяся в появлении массы арт-объектов нового типа (керамопластики, стеклопластики, текстильной пластики или рельефных гобеленов). В техническом же дизайне воцарился (несмотря на лозунг «Искусство в быт!») прочный застой: его самые передовые, экспериментальные наработки, как правило, не находили выхода на конвейер, в производство же запускались модели исключительно старомодные или, в лучшем случае, полностью повторяющие зарубежные образцы. Постоянным источником вдохновения для всех пластических искусств по-прежнему оставались промыслы и производства, тесно связанные с фольклорной традицией (дымковская керамическая игрушка, грузинская чеканка по металлу или разнообразные нац. вышивки и ковры и др.).
Перестройка и постперестройка
Резкие изменения и сдвиги, которые политическая перестройка внесла в искусство, коснулись в первую очередь его функционирования в обществе, а не его стилистики и тематики. Так, всеобщий интерес к развитию местных традиций, свободных от идеологических стереотипов, многонациональная воля к «поэтическому краеведению» – воля в равной мере и профессиональная и массовая, охватившая и художников и их публику, – во многом предопределяли историю искусств ещё до 1985, затем претворившись в волны новых нац. возрождений, прокатившихся с распадом СССР по всей его бывшей территории. Аналогичным образом и запретные в цензурном отношении темы, и новейшие постмодернистские течения активно осваивались рос. искусством (подпольно, полуподпольно либо даже официально, но как бы «иносказательно»), позднее лишь став закономерным фактором гласности и плюрализма.
Если советская культурная политика была неизменно направлена на установление придирчивого идейного контроля за творчеством (что в периоды ужесточения этого контроля неизбежно влекло за собой строгую унификацию даже внешнего, формального строя произведений), то теперь государство полностью отказалось от такого рода претензий. Наметились тенденции разукрупнения прежних организаций (в т. ч. и самой многочисленной из них – Союза художников): в ряде случаев из больших союзов выделились их региональные отделения, возникла масса отдельных групп авангардного либо, напротив, традиционалистского толка. Однако с годами процесс этот затормозился, оправдав себя (что касается региональных отделений) лишь в самых больших городах (в Москве и С.-Петербурге) либо в тех случаях, когда самоорганизовывались те профессиональные слои, которые прежде (подобно дизайнерам или фотографам) не имели полноценного общественного представительства. Подавляющая же часть малых групп с годами распалась, не сумев приспособиться к новой культурной ситуации. Организационная и научно-методическая централизация предстала в ряде случаев фактором весьма актуальным: адаптируясь к процессу политико-экономических реформ, укрепили свои позиции Рос. академия художеств и (существующий на базе прежнего Союза художников РСФСР) Союз художников России, возродилась упразднённая в 1964 Академия архитектуры (1992).
Рыночная экономика, реальный спрос предстали отныне главным (и достаточно жёстким) регулятором отношений между заказчиком и художником. Важнейшими компонентами худож. процесса явились уже не объединения или кружки, а частные галереи (как авангардные, так и традиционалистские), с большим или меньшим успехом сочетающие искусство с бизнесом. Важную роль получил и фактор региональной, в т. ч. муниципальной, поддержки искусства, позволяющей тактично выравнивать перекосы рынка, не отдавая искусство целиком на откуп меняющихся мод и частных вкусов.
Рос. архитектура быстрее всего приспособилась к условиям рынка благодаря возникновению значительного числа частных проектных фирм и мастерских, способных (в отличие от группировок в изоискусствах) работать в статусе достаточно эффективных производственных «команд». Совпавшее с ранней фазой перестройки широкое распространение компьютерной графики, позволяющей с максимальной свободой комбинировать исторические стили вкупе с постмодернистскими приёмами (с их изначальной вариативностью), а чуть позднее вал зарубежных дизайнерских технологий и новых строительно-отделочных материалов – всё это, стимулируя творчество, с другой стороны, составило немалую угрозу для региональной специфики, неизбежно подстраивая её под общемировой, но в то же время эстетически усреднённый уровень. Действительно, в своём расхожем варианте новейшее рос. зодчество лишь варьирует старину, модерн и постмодерн, создавая не самоценные образные структуры, но лишь эффектные, порой популистски-китчевые рекламные «имиджи» для индивидуальных или корпоративных клиентов. Однако наметились и качественные сдвиги (в произведениях новой нижегородской школы, основателями которой явились А. Е. Харитонов и Е. Н. Пестов, а также работах ряда др. зодчих – Ю. П. Гнедовского, А. В. Кузьмина, М. М. Посохина, А. А. Скокана и др.), свидетельствующие о кристаллизации действительно новаторских, а не только лишь рутинно-новомодных манер архитектурно-строительного мышления.
Несмотря на множество примеров грубого, непродуманно-волюнтаристского «новодела» (искажающего старинные здания нетактичным применением современных технологий), в целом историческая архитектурная среда пострадала за годы перестройки несравнимо меньше, чем за любой иной постреволюционный период. Иногда исторически упорядочивались даже целые городские ландшафты, напр. в Сергиевом Посаде, где новое строительство в 90-х гг. планомерно велось в духе краснокирпичного «стиля Александра III» (господствовавшего здесь на рубеже 19– 20 вв.). Важнейшим же стимулом для подобного рода воссозданий стал решительный отказ государства от программно-антирелигиозной политики. Обретение реальной свободы совести и наделение религиозных конфессий действенными правовыми полномочиями повлекли за собой возрождение храмов. По всей России характерными приметами городского и сельского пейзажа всё чаще становятся церкви, иной раз полностью, практически с фундамента, воссозданные на прежнем месте (известнейшим примером стал моск. храм Христа Спасителя, взорванный в 1931 и восстановленный в 1995–2000). Возводятся и новые, как каменные, так и деревянные, православные храмы, следующие старинным образцам (средневековым или историко-романтическим) и в то же время действенно соучаствующие в развитии современной архитектурно-пейзажной среды. Аналогичным образом «традиционно-современными» предстают и новые мечети: они либо (как в Поволжье) ориентируются на знаменитые средневековые, чаще всего среднеазиатские, примеры, порой стремясь сравняться с их декоративной пышностью, либо (как на Северном Кавказе) воспроизводят местные, более скромные прототипы. Но активную жизнь современного религиозного искусства всех главных конфессий России было бы ошибочно называть «бурно развивающейся» (в смысле сменяющих друг друга новшеств). Эстетика православия, ислама и буддизма, при всех различиях этих вероисповеданий, в равной мере остаётся строго консервативной и не склонной к модернистским поискам.
Если же говорить о традиционализме в светском искусстве, то в нём (с разрушением стандартов соцреалистической по своим установкам тематической картины и превращением основной массы портретов в чисто коммерческую, хотя порой и весьма высокую по своему уровню продукцию) по-прежнему весьма значительным остаётся духовный авторитет пейзажного жанра, полного поэтически-медитативных настроений или исторических ретроспекций (живопись В. В. Дементьева, В. М. Сидорова, графика Б. Ф. Французова и др.). Подчёркнуто антиавангардный неорусский стиль получил большую популярность, отразившись в различных видах творчества, в т. ч. и в монументальной скульптуре (памятники работы В. М. Клыкова). С другой стороны, нередко объединялись древнерусские и модернистские мотивы (напр., в живописи Н. А. Мухина), народился специфически «евразийский» модернизм, обыгрывающий древние магические символы (живопись Г. С. Райшева и др.).
Новейшие же течения, как правило, обходят исторические стилизации стороной, стремясь противопоставить им концептуальные проекты на темы города, власти, секса, природы и т. д. (эти темы чаще всего развёртываются в виде больших галерейно-выставочных серий, инсталляций или худож. акций). Подобные опыты зачастую приобретают подчёркнуто агрессивный, провокационно-игровой (хеппенинги О. Б. Кулика) либо более добродушный, пародийно-иронический (как в творчестве петерб. группы «Митьки») характер; в живописи распространяются нарочито-эклектичные «трансавангардные» тенденции, использующие систему стилей как «клавиатуру» условных знаков (Т. П. Новиков с его игровой «неоклассикой», В. Н. Кошляков и др.). При этом, однако, самым мощным конкурентом подобного «пост-постмодернизма» служит отнюдь не искусство традиционного типа, а массмедиальный и урбанистический дизайн, который всё чаще опережает чисто «галерейный» авангард, активно используя его приёмы и нередко (в наиболее «концептуальных» видеоклипах и уличной рекламе) полностью с ним сливаясь. Границы арт-эксперимента и массовой культуры предстают всё более прозрачными и условными.
Та же закономерность предопределяет и жизнь декоративных искусств. Керамические, стеклянные и др. рода вещи эстетского стиля, характерные для 1960–80-х гг., исчезают под натиском чисто коммерческих изделий либо подстраиваются к ним (находя свою нишу в различного рода «ретростилях», воспроизводящих декоративный язык той или иной эпохи). Некоторые же художники-прикладники успешно переходят к модернистски-авангардным фантазиям, т. о. успешно возвращаясь в музейно-выставочную сферу, но уже отбросив претензии на какую-либо «бытовую пользу». Наиболее эффективным выражением последней чаще всего служит стиль хай-тек, воспроизводящий (но зачастую и пародирующий) передовые технологии; однако хай-тек в России пока осваивается чисто подражательно, что, впрочем, является фактором скорее промышленно-экономического, чем эстетического свойства.
В традиционных худож. промыслах с началом перестройки активно проявляются пародийно-китчевые тенденции, своего рода декоративный соц-арт (матрёшки с лицами популярных политических фигур, богородские деревянные игрушки с медведем за компьютером и т. д.). С годами же наиболее творчески эффективными (в т. ч. и коммерчески) оказываются именно традиционные модели и орнаменты, которые служат своего рода эстетическим паспортом того или иного региона.
Многовековая традиция рос. искусства утвердилась в качестве мощного пласта худож. культуры, сохраняющего внутреннюю целостность и неповторимое своеобразие во все эпохи, несмотря на изменения исторических границ государства. Огромный духовный опыт, накопленный во всех сферах архитектурного, изобразительного и прикладного творчества, продолжает оставаться актуальным: и в классике, и в наследии арт-авангарда (также уже ставшего классическим) открываются новые смысловые грани, что позволяет им успешно соревноваться с сегодняшними произведениями. Последние, впрочем, выдвигают свои собственные ответы на вызовы времени, создавая реальную основу будущей классики. Худож. панорама становится всё более многоплановой, отражая конкретное многообразие совр. истории России.