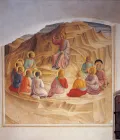Иисус Христос
Иису́с Христо́с (греч. Ἰησοῦς Χριστός) (около 7–6 до н. э. – около 30 н. э.), еврейский проповедник, в христианстве – Сын Божий и Мессия. Иисус – греческая транслитерация еврейского имени Йешуа; Христос – греческий перевод еврейского титула Māšīaḥ (Мессия, помазанник). По-видимому, современникам был известен как «Иисус, сын Иосифа» (Ин 1:45; здесь и далее перевод наш) или «Иисус из Назарета» (Деян 10:38).
Греко-римские источники
Нехристианские свидетельства об Иисусе Христе скудны. Основное из них содержится у Тацита (110-е гг.): он упоминает о казни Иисуса Христа при прокураторе Понтии Пилате (Анналы. XV. 44. 3). Согласно Светонию Транквиллу, около 49 г. император Клавдий изгнал из Рима «иудеев, постоянно волнуемых Хрестом» (Жизнь 12 цезарей. V. 25. 4). Возможно, имеется в виду распространение вести об Иисусе Христе в Риме («Хрест» – Иисус Христос) (Engberg. 2007), но текст ничего не сообщает о самом Иисусе Христе. Ещё менее информативен рассказ Плиния Младшего о том, что христиане воспевают Иисусу Христу гимны как богу (Письма. X. 96. 7), показывая лишь веру и обычаи малоазийских христиан. Кроме того, судя по данным стилометрического анализа, отрывок мог подвергнуться правке переписчиков (Tuccinardi. 2016).
Не менее проблематичен фрагмент из «Письма Мары бар Серапиона» об убийстве евреями «мудрого царя», автора каких-то новых «законов». Хотя идентификация этого «царя» с Иисусом Христом возможна, а датировка письма 70-ми гг. солидно обоснована (Merz. 2008), встречаются попытки отнести его к 4 в. (McVey. 1990). Согласно одной гипотезе, «Письмо» – риторическое упражнение 4 в. или более позднее (Chin. 2006).
Еврейские источники
Широкие дискуссии вызвало упоминание об Иисусе Христе [«свидетельство Флавия», Testimonium Flavianum (TF)] в трактате «Иудейские древности» (XVIII. 3. 3) Иосифа Флавия (около 93–94). Хотя некоторые ученые считают TF полностью подложным (Hopper. 2014), большинство склоняются к тезису, что христианские переписчики лишь отредактировали его (Whealey. 2003). В науке нет единого мнения относительно первоначального текста TF. Возможно, Иосиф описывал Иисуса Христа как популярного в народе учителя, казнённого по приговору Пилата. В другом отрывке Иосиф сообщает о брате Иисуса Христа по имени Иаков (XX. 9. 1).
Очень редкие упоминания раввинистической литературы об Иисусе Христе с трудом поддаются анализу. Они завуалированы и зачастую нет уверенности, что подразумевается Иисус Христос. Согласно одной гипотезе, ни один текст из Мишны и Талмуда не говорит об Иисусе Христе, хотя местами есть поздние интерполяции (Maier.1978). Однако с большей уверенностью можно говорить лишь о том, что прямых упоминаний об Иисусе Христе нет в Мишне (около 200) и Палестинском Талмуде (завершён около 450). Вавилонский Талмуд (составлен в 6 в.), видимо, содержит некоторые полемические ремарки об Иисусе Христе (Schäfer. 2007). Наиболее интересен фрагмент о казни в канун Пасхи колдуна Йешу, «склонявшего Израиль к отступничеству» (Санхедрин. 43а). Отрывок носит легендарный характер, т. к. подчёркивает, что судьи затратили 40 дней на поиск показаний в пользу Иисуса. С учётом очень поздней датировки этот и другие подобные отрывки следует рассматривать как отражение полемики с христианством, но не надёжное свидетельство об Иисусе Христе.
Христианские источники: канонические
Основные источники об Иисусе Христе – христианские, и об их исторической достоверности нет консенсуса. Самые ранние упоминания об Иисусе Христе содержатся в подлинных письмах апостола Павла (к Римлянам, 1–2-е к Коринфянам, к Галатам, к Филиппийцам, 1-е к Фессалоникийцам; 50-е гг.). Первые развернутые повествования об Иисусе Христе – грекоязычные канонические Евангелия, ещё в древней рукописной традиции подписанные именами Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Среди них наука выделяет в особую группу т. н. синоптические Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки): они содержат столько общего в подборе и последовательности материалов, что их можно издать в виде синопсиса (трех параллельных столбцов). Согласно научному консенсусу, самым ранним из синоптиков было Евангелие от Марка (около 70), которое стало одним из главных источников для Евангелий от Матфея и Луки (около 75 – 100).
Согласно магистральной «гипотезе двух источников», Матфей и Лука писали независимо друг от друга и использовали, помимо Марка, утраченный ныне источник речений Иисуса Христа (Q, от нем. Quelle – источник) и ряд дополнительных преданий. Многие учёные убеждены в возможности реконструировать текст Q (вероятная датировка – 40–60-е гг.), а международный «Проект Q» подготовил критическое издание Q (The critical edition of Q. 2000). В начале 21 в. гипотеза 2 источников столкнулась с более широкой критикой, чем раньше (Goodacre. 2002; Abakuks. 2014). Обычно взаимосвязь между синоптиками пытаются объяснить без гипотетического источника Q (например, гипотеза Фаррера: Матфей пользовался текстом Марка, а Лука – Марка и Матфея). Однако выяснилось, что альтернативные гипотезы порождают больше проблем, чем решают. Нарратологический подход, предполагающий изучение композиции Q, вдохнул в связанную с ним теорию новую жизнь (Tiwald. 2019). В рамках этого подхода высказывалась гипотеза, что Q был документом с самостоятельной композицией, а не разрозненным собранием речений. Христос-Пантократор. Мозаика купола кафоликона монастыря Дафни. Ок. 1100.
Христос-Пантократор. Мозаика купола кафоликона монастыря Дафни. Ок. 1100.
Особняком стоит Евангелие от Иоанна (конец 1 – начало 2 вв.). Если у синоптиков основное содержание проповеди Иисуса Христа – этика и весть о Царстве, то у Иоанна – личность самого Иисуса как воплощенного Логоса. Его значение как исторического источника оценивается по-разному: между крайним скепсисом (Casey. 1996) и высоким доверием (Bauckham. 2007) разместилась попытка увидеть историческую ценность некоторых материалов (Jesus research. 2019.). Господствует мнение, что у Иоанна больше, чем у синоптиков, на воспоминания об Иисусе Христе накладывается богословская рефлексия. Плюрализму мнений способствует неясность источников. После многолетней полемики остается немало сторонников как независимости Иоанна от синоптиков (Borgen. 2014), так и частичной его опоры на их тексты (John's transformation of Mark. 2021.). По мнению ряда учёных, евангелист пользовался и «источником знамений» – рассказом о знамениях-чудесах, совершённых Иисусом Христом (Fortna. 1970).
Христианские источники: неканонические
В конце 20 в. интерес учёных к неканоническим источникам повысился. Однако, несмотря на попытки увидеть здесь новый ценный материал по жизнеописанию Иисуса Христа (Crossan. 1985), результаты оказались скромными. Основная полемика сосредоточена вокруг «Евангелия от Фомы», которое в платоническом духе трактует Иисуса Христа как воплощение истинного света. По мнению одних учёных, автор вторичен по отношению к синоптикам (Goodacre. 2002), другие видят у него автономную и раннюю традицию (Patterson. 1993). В последнем случае «Евангелие от Фомы» может доносить до нас более древнюю форму некоторых речений, знакомых по синоптическим текстам. Не исключена даже опора Марка и «Евангелия от Фомы» на общий источник (Horman. 2011). Однако есть тенденция относить нынешнюю редакцию этого апокрифа к началу 2 в. и считать, что подлинных речений Иисуса Христа в нём мало.
Другая значимая дискуссия касалась «Евангелия Петра», от которого дошёл отрывок о страданиях и воскресении Иисуса Христа. Была попытка выделить в нём древний слой – источник («Евангелие Креста»), созданный до канонических Евангелий (Crossan. 1988). Однако успеха она не имела. Перед нами поздний текст (около 150 – 190), вторичный по отношению к синоптикам (Foster. 2010), который восполняет незнание жизни Иисуса Христа и иудаизма 1 в. легендарными материалами.
Т. н. Евангелие Эджертона (2 в.), от которого сохранились лишь несколько отрывков (P. Egerton 2 + P. Cologne 255), доносит до нас фрагменты утерянного Евангелия. Эти несколько рассказов большей частью имеют параллели в канонических текстах. Значение текста как источника по жизни Иисуса Христа ограничено как в силу краткости, так и из-за вероятного использования автором канонических Евангелий (Zelyck. 2019).
Иудеохристианские Евангелия утеряны и сохранились в обрывочных цитатах. Неясно даже их число. Согласно «гипотезе трех Евангелий», существовали «Евангелие от евреев», «Евангелие от эбионитов» и «Евангелие от назореев» (последние два названия условны). «Евангелие от евреев» (2 в., Египет) может доносить элементы надёжной информации за счёт того, что автор был знаком, помимо синоптиков, с дополнительными преданиями. «Евангелие от эбионитов» (2 в., Заиорданье?) в известных нам отрывках отражает лишь вольную переработку синоптиков и не сообщает независимых сведений об Иисусе Христе. «Евангелие от назореев» (около 2 в.) могло содержать отдельные ранние материалы, но его статус проблематичен: есть версия, что оно не существовало как отдельный источник, а отрывки, атрибутируемые ему, принадлежали «Евангелию от евреев» (Luomanen. 2012).
Неканонические рассказы об Иисусе Христе, близкие к гностицизму, очень далеки от иудаизма 1 в. и Иисуса Христа. Таковы, в частности, «Евангелие от Филиппа», «Евангелие от Марии», «Евангелие Иуды», «Диалог Спасителя» и «Апокриф Иакова», составленные во 2 в. Они не используются как источники по жизни Иисуса Христа. Таков же статус т. н. Евангелий детства: «Протоевангелия Иакова» и «Сказания Фомы о детстве Христа».
Жизнь Иисуса Христа согласно каноническим Евангелиям
Все Евангелия описывают Иисуса Христа как еврейского Мессию и чудотворца, распятого при Понтии Пилате и воскресшего.
Детство и юность
Согласно Матфею и Луке, Иисус Христос был рождён в Вифлееме, в семье Иосифа и Девы Марии, при царе Ироде I Великом (Мф 2:1; Лк 1:5); причём Иосиф не был биологическим отцом: Иисуса Христа зачала Дева Мария силой Святого Духа (Мф 1:20; Лк 1:35).
Евангелисты почти не дают сведений об Иисусе Христе до его выхода на проповедь. Согласно Марку, Иисус Христос унаследовал профессию плотника от Иосифа (Мк 6:3). Согласно Луке, семья Иисуса Христа была благочестивой, Иисус Христос уже в 12 лет отличался благочестием и эрудицией (Лк 2:41–51), но на проповедь вышел примерно в 30 лет (Лк 3:23).
Крещение
Евангелие от Иоанна не упоминает о крещении Иисуса, но синоптики ведут отсчёт публичной деятельности Иисуса с этого события (Мф 3:13–17; Мк 1:9–11; Лк 3:21–22). Проповеди Иисуса Христа предшествовала проповедь Иоанна Крестителя. Иоанн проповедовал скорый суд и учил, что покаянием и омовением можно избежать Божественной кары (Мф 3:1–12; Лк 3:3–17). Он также предвещал скорый приход Мессии, причём Матфей подчеркивает, что Иоанн распознал Мессию в Иисусе Христе, пришедшем к нему креститься (Мф 3:13–14). Согласно синоптикам, после крещения Иисус Христос провёл 40 дней в пустыне, пережив искушения сатаны (Мф 4:1–11; Мк 1:13; Лк 4:1–13).
Весть о Царстве
Согласно синоптикам, в центре проповеди Иисуса Христа стояло учение о близком Царстве Божием (Мк 1:15; Мф 4:17; Лк 10:9–11). Содержание этого понятия не расшифровывается подробно, но, очевидно, имеется в виду полное владычество Бога над землёй, при котором силы зла будут побеждены.
Вопрос о сроках наступления Царства сложен. Евангелие от Марка учит, что до Царства доживут некоторые современники Иисуса Христа (Мк 9:1; 13:30), но евангелист делает оговорку, что о сроке не знает сам Иисус Христос (Мк 13:32). Матфей сообщает, что сначала благовестие должно прозвучать среди всех народов (Мф 28:19). У Луки сходная концепция (Деян 1:7), но он утверждает, что Царство отчасти наступило с приходом Мессии (Лк 17:21). Евангелие от Иоанна предполагает срок Царства в неопределенном будущем (Ин 21:21–23).
Этическое учение
У Марка подчеркивается, что основной этический минимум задан Ветхим Заветом: необходимо исполнять десять заповедей (Мк 10:19), а во главу поставить любовь к Богу и ближнему (Мк 12:31–32). Специфически новые требования включают отказ от развода (Мк 10:2–12), богатства (Мк 10:23–25) и стремления к руководящим должностям (Мк 10:42–43). Идеалом видится бессребреник, отказавшийся от мирских благ и почестей.
Матфей делает ещё больший акцент на том, что этика Иисуса Христа основана на ветхозаветном фундаменте (Мф 5:17–20), квинтэссенция которого – золотое правило в позитивной формулировке (Мф 7:12). Главное – преодолеть негативные чувства к другим людям (Мф 5:21–26) и любить даже врагов (Мф 5:43–47). Если человек не простит обидчикам, то и ему Бог не простит грехи (Мф 18:35). Допустима принципиальная реакция на серьёзные проступки: в случае измены супруга развод всё-таки возможен (Мф 5:31–32). Через нищету духа (смирение), кротость, милосердие, активное миротворчество человек обретёт счастье и в этом мире, и в будущем веке (Мф 5:3–12).
Лука не так сильно акцентирует преемственность этики с Ветхим Заветом, но включает золотое правило (Лк 6:31). Это Евангелие также говорит о необходимости прощения и любви к врагам (Лк 6:27–38), но больше других Евангелий обличает богатых (Лк 6:24–25). Для Луки также характерен образ Иисуса Христа как защитника обиженных и угнетенных.
Евангелие от Иоанна не упоминает о любви к врагам и мало касается поведения учеников в обществе, но подчёркивает их взаимную ответственность. Именно взаимная любовь – признак, по которому должны узнавать христиан (Ин 13:35).
Чудеса
Все Евангелия видят в Иисусе Христе чудотворца и связывают его популярность в народе с чудесами (Мф 12:23; Мк 1:45; Лк 11:14; Ин 6:2). У синоптиков Иисус Христос наиболее выделяется экзорцизмами и совершает исцеления. Иисус Христос интерпретирует свою способность изгонять бесов как знак близости Царства Божиего (Мф 12:28; Лк 11:20) и поражения сатаны (Мф 12:29; Мк 3:27; Лк 11:21–22). Чтобы человек исцелился, обычно требуется его вера. Все синоптики упоминают ряд природных чудес: например, усмирение бури (Мф 8:23–27; Мк 4:35–41; Лк 8:22–25), насыщение множества людей (Мф 14:13–31; Мк 6:32–44; Лк 9:10–17). Исцеление расслабленного. Мозаика в церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне. 2-я четверть 6 в.
Исцеление расслабленного. Мозаика в церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне. 2-я четверть 6 в.
Четвертое Евангелие не упоминает об экзорцизмах, но уделяет особое внимание 7 чудесам-знамениям. Первое из них – превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской (Ин 2:1–11), а последнее и кульминационное – воскрешение Лазаря (Ин 11:1–44). Все они призваны показать «славу» Иисуса Христа и его особую близость к Отцу.
Ученики
Иисус Христос собирает 12 апостолов – круг близких учеников. Расхождения между списками незначительны (Мк 3:16–19; Мф 10:2–4; Лк 6:14–16; Деян 1:13). В число апостолов («посланников») входили: Пётр (Симон) и его брат Андрей, Иаков и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Иуда, Симон Кананит, Иуда Искариот.
Титулы
В Евангелиях Иисус Христос наделяется несколькими ключевыми титулами. Именуя Иисуса Христа «Христом» («помазанником»), они используют титул, которым в Израиле награждались цари после помазания маслом при коронации (1 Цар 24:7). Имеется в виду осуществление в Иисусе Христе пророчеств о явлении праведного царя, потомка Давида (Зах 9:9–10; 12:8–13:1). По этой же причине синоптики именуют Иисуса Христа «сыном Давида». Давидические цари именовались и «сынами Божиими» (Пс 2:6–7). Это отчасти объясняет и именование Иисуса Христа «Сыном Божиим», но в ряде новозаветных текстов (особенно в Евангелии от Иоанна) данный титул указывает также на особую близость Иисуса Христа к Богу. Евангелие от Иоанна называет Иисуса Христа единственным Сыном Бога (Ин 3:16), учит о его предвечном существовании как Логоса (Ин 1:1–18) и выражает веру Церкви в исповедании Фомы: «Господь мой и Бог мой» (Ин 20:28).
К мессианской роли Иисуса Христа относится и титул «Сын Человеческий» (т. е. Человек): он отсылает к пророчествам книги пророка Даниила о владычестве Сына Человеческого, которое сменит хищные империи века сего (Дан 7).
Страстная неделя
Кульминация всех Евангелий – Страстная неделя. Согласно всем Евангелиям, Иисус Христос предвидел свою казнь, как и воскресение в 3-й день (Мф 16:21; Мк 8:31; Лк 9:22; Ин 2:19–22). Эта смерть совершилась для искупления грехов людей (Мф 20:28; 26:27; Мк 10:45; 14:24; Лк 22:20; Ин 1:29).
Во всех Евангелиях Страстная неделя начинается со входа Иисуса Христа в Иерусалим под бурное приветствие толпы (Мф 21:1–9; Мк 11:1–9; Лк 19:29–38; Ин 12:12–19). У синоптиков Иисус Христос затем изгоняет из храма торгующих (Мф 21:12–13; Мк 11:15–17; Лк 19:45–46), а вскоре предрекает гибель храма (Мф 24:2; Мк 13:2; Лк 21:6). Далее он совершает последнюю трапезу с учениками. У синоптиков это иудейский пасхальный седер, на котором Иисус Христос таинственно отождествляет хлеб и вино трапезы со своими Телом и Кровью (Мф 26:17–29; Мк 14:12–25; Лк 22:7–20). У Иоанна отождествления с седером нет, слова о плоти и крови отсутствуют, но Иисус Христос сообщает более полное мистическое учение о своей личности и о будущих событиях (Ин 13:1–14:31).
Судебные разбирательства евангелисты описывают несколько по-разному, но синоптики согласны, что синедрион вынес приговор, получив от Иисуса Христа признание в мессианских притязаниях (Мф 26:63–66; Мк 14:60–64; Лк 22:67–71). Иисус Христос был передан римскому наместнику Понтию Пилату (Мф 27:2; Мк 15:1; Лк 23:1; Ин 18:28), который вынес окончательный приговор. Иисус Христос был распят между 2 разбойниками, а над его головой поставлена надпись, именующая его «царём иудейским» (Мф 27:37–38; Мк 15:26–27; Лк 23:33, 38; Ин 19:18–21). Свидетелями смерти Иисуса Христа были верные ему ученицы (Мф 27:61; Мк 15:47; Лк 23:49; Ин 19:25–27), а Иосиф Аримафейский предал тело погребению (Мф 27:57–61; Мк 15:43–46; Лк 23:50–53; Ин 19:38).
Воскресение
 Пьеро делла Франческа. Воскресение. Ок. 1463.
Городской музей, Сансеполькро.Утром 3-го дня после распятия к гробнице приходят женщины: согласно одной версии, Мария Магдалина (Ин 20:1–2); согласно другой, группа женщин (Мф 28:1–8; Мк 16:1–8; Лк 24:1–10). Гробница оказывается пустой. Между рассказами евангелистов есть различия, но они сходятся на том, что воскресший Иисус Христос являлся ученикам (Мф 28:16–20; Мк 16:7; Лк 24:13–51; Ин 20:19–21:23). Согласно Матфею, воскресший Иисус Христос заповедал двенадцати передать его учение всем народам, крестя их «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28:19). Лука описывает также вознесение Иисуса Христа на небеса (Лк 24:51; Деян 1:1–11).
Пьеро делла Франческа. Воскресение. Ок. 1463.
Городской музей, Сансеполькро.Утром 3-го дня после распятия к гробнице приходят женщины: согласно одной версии, Мария Магдалина (Ин 20:1–2); согласно другой, группа женщин (Мф 28:1–8; Мк 16:1–8; Лк 24:1–10). Гробница оказывается пустой. Между рассказами евангелистов есть различия, но они сходятся на том, что воскресший Иисус Христос являлся ученикам (Мф 28:16–20; Мк 16:7; Лк 24:13–51; Ин 20:19–21:23). Согласно Матфею, воскресший Иисус Христос заповедал двенадцати передать его учение всем народам, крестя их «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28:19). Лука описывает также вознесение Иисуса Христа на небеса (Лк 24:51; Деян 1:1–11).
Иисус Христос в Павловых посланиях
Для Павла характерен гораздо больший интерес к смерти и воскресению Иисуса Христа, чем к его учению и обстоятельствам проповеди. В его письмах сведения о жизни Иисуса Христа минимальны. Иисус Христос – иудей (Гал 4:4) из потомков Давида (Рим 1:3–4), имевший братьев (Гал 1:19), в том числе одного по имени Иаков (Гал 1:19). Иисус Христос заповедовал избегать разводов (1 Кор 7:10–11) и давал наставления миссионерам (1 Кор 9:14). Он произнес установительные слова на последней трапезе с учениками (1 Кор 11:23–25), был распят (1 Кор 1:13, 23; 2:2; Флп 3:18; Гал 3:1) «за грехи наши» и был воскрешён в 3-й день, после чего являлся ученикам и самому Павлу (1 Кор 15:38).
Воскресение Иисуса Христа лежит в основе Павловой веры, и без него христианская вера не имеет смысла (1 Кор 15:14, 17, 19). Благодаря его воскресению возможна личная встреча верующего с Иисусом Христом и пребывание духа Иисуса Христа в сердцах верующих (Гал 2:20; 4:6). Благодаря ему человек не только воскреснет в конце времен, но может духовно ожить ещё в земной жизни (Рим 8:11), обретя качество любви к ближним (1 Кор 13). При этом для Павла важен соборный аспект веры: христиане, объединенные живущим в них Духом Иисуса Христа, составляют единое «тело Христово» (1 Кор 12:27). Только этот опыт Духа, а не формальная вера определяет человека как христианина (1 Кор 12:23; 2 Кор 13:13).
Из-за акцента на отношениях с воскресшим Иисусом Христом значение земного/политического мессианства снижено. В бесспорных посланиях Павел называет Иисуса Христа «Христом» 266 раз, но почти всегда (возможно, кроме Рим 9:5) это не имеет выраженного мессианского подтекста: «Христос» становится вторым именем. Более значимо, что Иисус Христос есть Сын Божий (Гал 2:20; 3:26; 2 Кор 1:19). Его богосыновство позволяет и верующим в Иисуса Христа стать детьми Бога (Рим 8:14–17; Гал 3:26). Также Иисус Христос есть κύριος («господин»), через которого осуществляется владычество Бога (1 Кор 8:4–6). Данное исповедание отражено в арамейском восклицании «маранафа» (1 Кор 16:22; «Господь наш, приди» или «Господь наш пришел»). Павел также называет Иисуса Христа «последним Адамом» (1 Кор 15:45): своей праведностью Мессия стал антитезой первому Адаму. Если первый Адам принес людям смерть, то второй – искупление и вечную жизнь (Рим 5:12–21).
В науке нет единого мнения относительно того, считает ли Павел Иисуса Христа Богом. Согласно одной гипотезе, Павел не предполагал божественности Иисуса Христа, оставаясь в рамках ветхозаветного монотеизма (McGrath. 2009). Однако более распространена теория о наличии у Павла «бинитарного» монотеизма: Иисус Христос достоин поклонения вместе с Богом (Hurtado. 2003). Божественность Иисуса Христа может подразумеваться в некоторых отрывках (Рим 9:5; Флп 2:5–11). Ещё ближе к этой вере поздние послания Павлова корпуса, в которых Иисус Христос есть «образ Бога невидимого» (Кол 1:15), в чём-то напоминающий ветхозаветную Премудрость.
Иисус Христос в Соборных посланиях
Послания Иакова и Иуды лишь упоминают мессианское достоинство и владычество Иисуса Христа, а также его ожидаемое пришествие (Иак 1:1; 2:1; 5:7; Иуд 4, 21; 2 Пет 1:1). 1-е послание Петра говорит не только о воскресении Иисуса Христа и искуплении им верующих (1 Пет 1:3, 19), но и о его сошествии после смерти в ад с целью проповеди умершим (1 Пет 3:18–20; 4:6). Особый упор сделан на готовности Иисуса Христа безропотно претерпеть страдания ради исцеления человечества (1 Пет 2:23; 4:1). 2-е послание Петра приводит предание о преображении Иисуса Христа на «святой горе» (2 Пет 1:16–18), которое дополнительно подтверждает мессианское достоинство Иисуса Христа и укрепляет в вере во времена задержки парусии.
Концепция посланий Иоанна Богослова напоминает 4-е Евангелие. Иисус Христос есть Спаситель мира (1 Ин 4:14), который умер за грехи людей (1 Ин 4:10), а ныне выступает в роли «ходатая» за верующих перед Отцом Небесным (1 Ин 2:1). Бог пребывает в тех, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божиим (1 Ин 4:15).
Наиболее самобытна христология послания к Евреям, трактующая Иисуса Христа одновременно как жертву и как небесного первосвященника (Евр 7:26–28). Подчёркивается божественность Иисуса Христа: он есть сияние славы Божией и отпечаток сущности Бога (Евр 1:3), которому поклоняются все ангелы (Евр 1:6).
Иисус Христос в Откровении Иоанна
Автор применяет к Иисусу Христу иудейские мессианские образы: «владыка царей земных» (Откр 1:5; 19:16), «имеющий ключ Давида» (Откр 3:7), «лев из колена Иуды» (Откр 5:5), «корень Давида» (Откр 5:5), жених Церкви (Откр 19:7). Однако Иисус Христос не составляет часть тварного мира: он есть «Первый и Последний» (Откр 1:17), «Альфа и Омега, Начало и Конец» (Откр 22:13). Текст сочетает акценты на смирении Иисуса Христа и его роль владыки-победителя. С одной стороны, Иисус Христос чаще всего именуется «Агнцем», искупившим своей кровью человеческие грехи (Откр 5:8–10). С другой стороны, Иисус Христос восседает с Отцом на престоле (Откр 3:21), а в конце времен вернется поразить своих врагов (Откр 19:11–21).
Иисус Христос и историческая наука
Почти все учёные считают Иисуса Христа реальной исторической личностью.
Все древнейшие свидетельства об Иисусе Христе предполагают его историчность. Не только в канонических Евангелиях, но и в более раннем источнике Q Иисус Христос – реальное лицо.
Нет свидетельств, что древние противники христианства называли Иисуса Христа вымышленным лицом.
Об Иисусе Христе как исторической личности говорят Тацит и Иосиф Флавий.
Многие ранние предания об Иисусе Христе убедительно локализуются не в мистериальных религиях, а в иудаизме. Ряд евангельских преданий об Иисусе Христе выглядят как переводы с семитского оригинала.
Тем не менее критически настроенные историки не принимают все евангельские предания как достоверные.
Противоречия между Евангелиями не всегда легко поддаются гармонизации.
Евангелисты почти наверняка не были очевидцами, а опирались на устные и письменные предания. За десятилетия, прошедшие между временем жизни Иисуса Христа и написанием Евангелий, традиция могла претерпеть искажения.
Память рассказчиков не всегда безупречна.
Иисус Христос и апостолы говорили на арамейском и иврите, а Евангелия написаны на греческом. При переводе возможны искажения.
Рассказы о чудесах вызывают сомнения у тех, кто отрицает чудеса.
В зависимости от методологии эти проблемы ведут к результатам, которые более или менее благоприятны для оценки Евангелий как исторического источника.
Дисциплина, занимающаяся историческим исследованием жизни Иисуса Христа, называется «поиск исторического Иисуса» (англ. Quest for the historical Jesus).